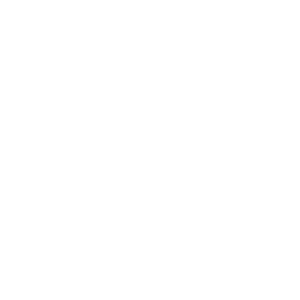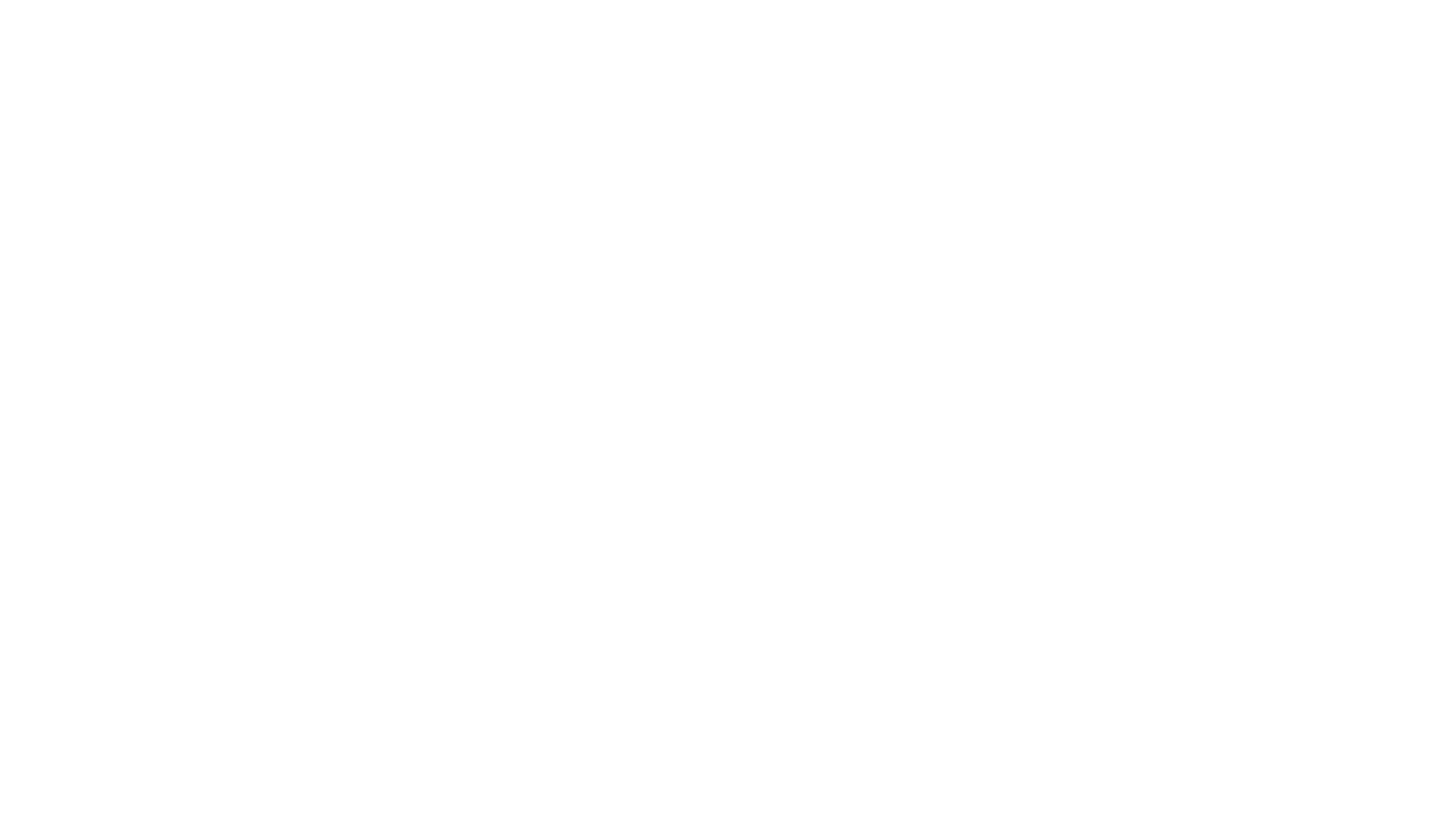
Семейная стратегия для UHNWI: продуманная преемственность, правильная структура, комплексный подход и тайминг
Надо сказать, что специалисты по работе с активами HNWI/UHNWI семей по всему миру (и наша команда в частности), считают, что преемственность в бизнесе и семье – не какая-то абстрактная глава для учебников, которую нужно включить как «филлер», чтобы просто "была". Нет, это настоящий практический вопрос выживания Династии.
С помощью нашего довольно большого материала мы отправимся в целое путешествие и поговорим о том:
- Почему семейная стратегия преемственности так важна;
- Какие инструменты (завещания, трасты, личные и семейные фонды, семейные офисы, прочие структуры) помогают сохранить все то, что дорого: и материальные, и нематериальные активы;
- Какие ошибки совершают предприниматели, и как на практике планируют наследие в разных уголках мира – от Запада до Евразии;
- Какие примеры для владельцев активов во всем мире показаны в сериале "Наследники".
Подкрепим разговор свежими данными: например, из Penguin Analytics (далее иногда РА), UBS Global Family Office Report 2025 и Global Wealth Report 2024 и реальными кейсами семейных компаний. Поехали!
Владельцы крупного бизнеса и капитала рано или поздно задумываются: что станет с делом и состоянием, когда их не станет? Как передать активы детям и при этом не «испытать судьбу»? Если вы разбудите кого-то из нашей команды в 3 ночи, то самый быстрый по нашему мнению правильный ответ – заняться наследственным планированием прямо сейчас. Альтернатива – пустить всё на самотёк, то есть «на авось», что, по меткому выражению многих экспертов, равносильно закладке бомбы замедленного действия.
Владельцы активов по сути стоят на непримиримом "Т-образном" перекрестке: подготовиться заранее или оставить наследникам сложные проблемы? Давайте порассуждаем и представим: Вы создавали бизнес и капитал всю жизнь, но знаете ли вы, что 70% таких состояний утрачиваются уже к третьему поколению, а 90% не переживают четвертое.
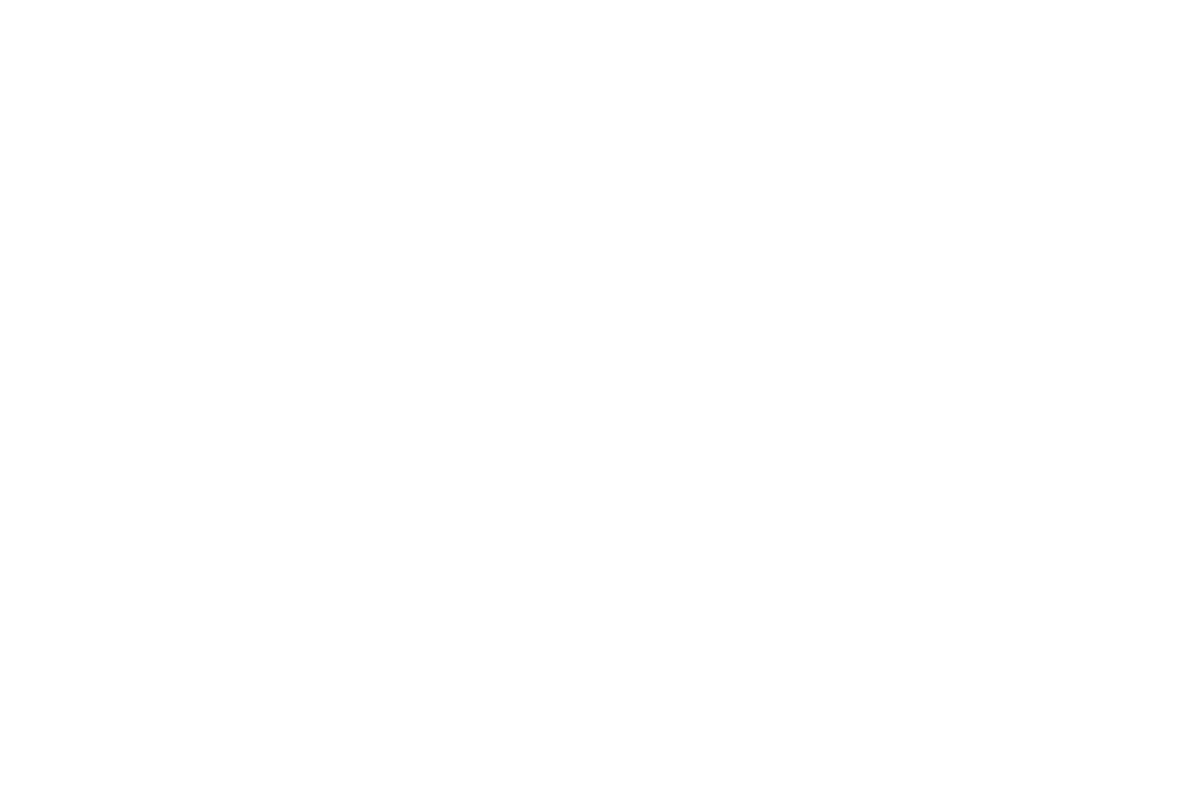
Звучит не очень, согласитесь. Отсутствие подготовки наследников, семейных договоренностей и стратегического плана часто приводит к распаду династий. Не хотим пугать, но вполне вероятно, если этот материал прямо сейчас читает владелец солидной наследственной массы, он может не подозревать о целом ряде слабых мест в его стратегии передачи активов даже тому, кому он по-настоящему доверяет.
Сегодня, на пороге уже упомянутой «Великой передачи благосостояния» — тема наследственного планирования актуальна как никогда. Будет крайне важно задаться вопросом – волнует ли это Вас прямо сейчас? Не скроем, некоторых владельцев активов – совсем не волнует. Да, такие люди встречаются: некоторые ничего не хотят передавать, а кому-то – просто всё равно. Никакого осуждения. Другое дело, что, например, позиция «ничего не хочу передавать» — это тоже наследственная стратегия, которую нужно готовить. Да-да.
Ниже – основные выводы к которым мы и наши партнеры по всему миру пришли за годы работы. Они важные, но совсем нехитрые (более того, мы ни одного раза за весь материал не «изобретем велосипед»):
- Большое богатство = большое наследствоКак вам такая мысль уровня Сократа? Но, если серьезно, то более трети мирового богатства достается по наследству (в США например по некоторым оценкам – до двух третей). Для состоятельных семей передача активов – стратегическая задача сохранения наследия, семейных ценностей и капитала. Так что сложности с преемственностью – самые что ни на есть масштабные.
- К сожалению, многие не готовыИсследование Campden Wealth показало, что если измерять в семейных офисах (которые как инструмент по идее должны быть очень вовлечены в этот вопрос), то ~53% семейных офисов имеют план преемственности, но лишь 30% оформлены письменно. Даже* состоятельные семьи часто откладывают этот вопрос: 87% бизнесменов хранят информацию о своих активах «плохо или удовлетворительно», а самые распространенные «системы учёта» – коробка с бумагами или, того хуже, простой список на бумаге.
*Мы здесь намеренно употребляем слово «даже» и отчасти подыгрываем стереотипам, однако вопреки общему заблуждению, состоятельный человек не равно человек, который задумывается о таких задачах чаще или тем более что-то предпринимает, чем тот, кому не так много есть что передать. Живые люди – есть живые люди. - Конфликты поколений реальныИстории бизнес-династий изобилуют драмами – от ссор отцов и детей до судебных войн за наследство. «Из грязи – в князи – и обратно в грязь» сказано недаром: без диалога и доверия внутри семьи даже большие состояния рискуют превратиться в источник розни и привести к потерям.
При этом не нужно думать, что все эти «дрязги» — это удел состоятельных семей где-то там "в космосе за горизонтом событий". С одной стороны – нет денег/активов=нет проблем. А с другой – даже обычные семьи теряют свои немногочисленные активы и родственные связи, потому что вовремя не задумались о состоянии дел. А банальное «не общаться годами друг с другом» приводило к проблемам, которые вчера еще и не снились.
Наследственное планирование – ключ к долгосрочной преемственности
Невозможно начать разговор, не разобравшись в самом главном: что же такое наследственная стратегия/планирование.
Наследственное планирование – это комплексное приготовление к передаче активов следующему поколению, которое может произойти в любой момент по причине неконтролируемого триггерного события (потеря трудоспособности или уход из жизни) или запланировано еще при жизни. В общем смысле это ответ на вопрос: «Что останется после меня и кто и как этим будет управлять?». Без такого плана даже самый успешный бизнес может не пережить смену поколений.
Как гласит англоязычная пословица – «Shirtsleeves to shirtsleeves in three generations»: от рубашки до рубашки за три поколения” — из бедности к богатству и обратно, если не заниматься преемственностью.
Еще раз упомянем пугающую статистику из введения: около 70% богатых семей теряют своё состояние ко второму поколению, а 90% – к третьему. Иными словами, без планирования семейный капитал растворяется с тревожной предсказуемостью.
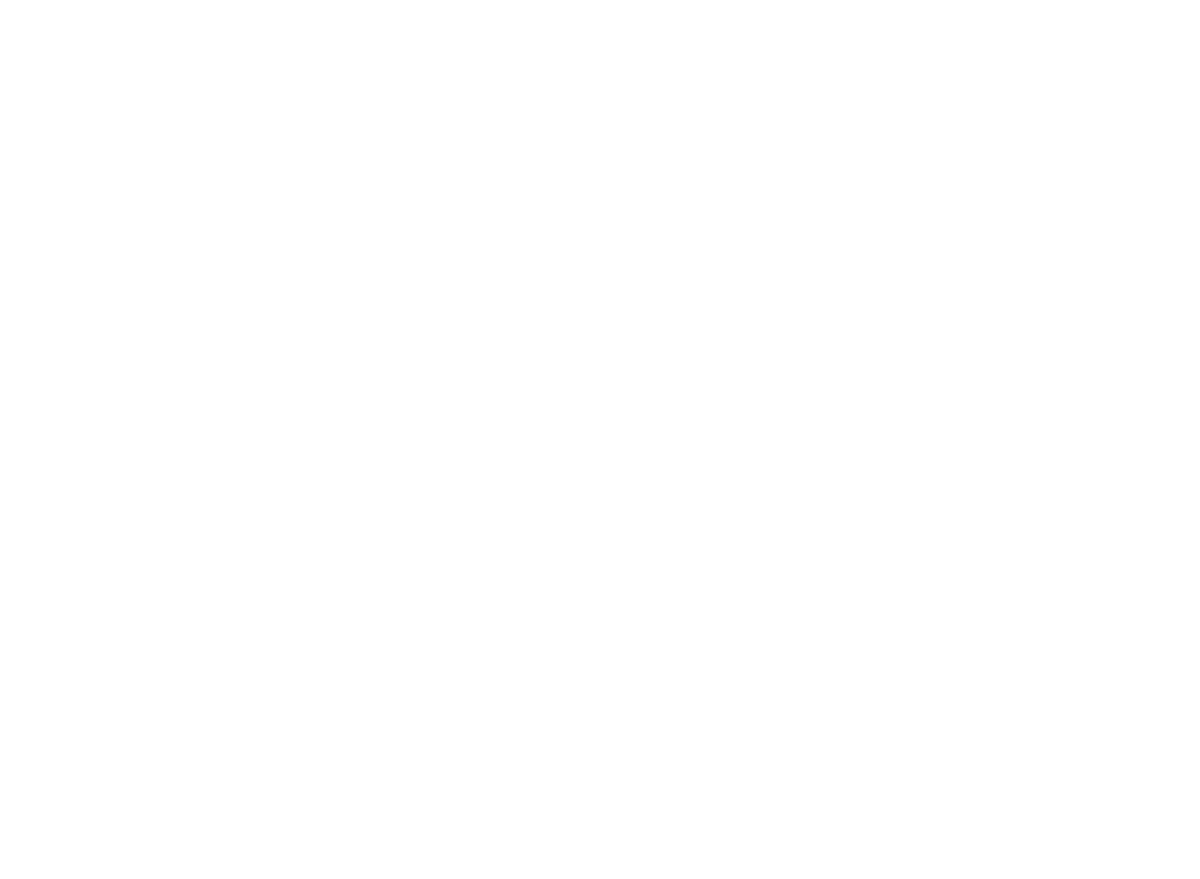
Международный опыт подсказывает, что причина не в мистическом «проклятии третьего поколения», а в банальных ошибках: отсутствует чёткий план наследования, наследники не готовы к ответственности, информация об активах разрознена или её нет вовсе, налоги и юридические тонкости не учтены или проигнорированы.
Исследования подтверждают эти наблюдения. Согласно глобальному опросу Penguin Analytics (эта замечательная команда будет "икать" из-за нас по ходу статьи еще не раз), лишь около 6% семей имеют формальную стратегию наследования (или имеют ее, или находятся внутри активной фазы ее разработки). Остальные 94% фактически надеются на авось. Более того, 89% владельцев капитала сомневаются, что доверенные специалисты (например, юристы, банкиры) исполнят все задачи наилучшим образом, когда придёт время. Почти половина основателей крупных капиталов (48%) прямо говорят, что их семья не сможет полноценно унаследовать и управлять всеми активами. Проще говоря, люди строят бизнес-империи, но внутренне понимают: без специальной подготовки наследников и структуры эти империи могут дать трещину.
Еще одна важная причина – человеческий фактор, а именно – недостаток доверия и общения между поколениями. Психологи отмечают феномен: основатели состояния часто не желают обсуждать тему наследства и собственной смертности – им кажется, что «это еще не скоро» или просто неприятно говорить о таком. Пока родители тянут с разговором и не оставляют четких инструкций, дети и внуки живут в неведении о будущих правах и обязанностях. В итоге «наследство» из благословения превращается в «минное поле» конфликтов и сюрпризов.
Более того, порядка 56% активов и капитала семей уязвимы перед юридическими притязаниями третьих лиц и государства, если планирование отсутствует.
*Исследование PA
Немного гендерной статистики: исследование UBS (2025) показало, что почти 1/3 женщин, унаследовавших капитал от родителей, никогда не разговаривали с ними заранее о передаче богатства. 4 из 10 получили наследство без какого-либо плана – ни завещания, ни траста. Неудивительно, что 80% женщин-наследниц столкнулись с серьезными трудностями: половина была шокирована суммами налогов или тем, сколько времени заняло оформление. Аналогично, 25% вдов признавались, что не знали о существовании части активов мужа до его смерти.
Та же проблема в целом у молодого поколения: почти треть богатых миллениалов не имеет понятия, где активы их родителей и как они будут распределены. Вывод очевиден – нехватка общения и прозрачности усугубляет и без того стрессовую ситуацию передачи наследства.
Немного разогревшись и приготовившись к действительно серьезного разговору, резюмируем:
- Преемственность – это не разовое действие. Это самый настоящий процесс подготовки семьи.
- Богатство – штука сложная: если его заблаговременно не «приручить», оно легко может "отбиться от рук" и ускользнуть.
Семейные компании и династии: международный vs. евразийский опыт
Практика преемственности складывалась по-разному в мире и на евразийском пространстве. В развитых экономиках Европы, Америки, Азии десятилетиями (а то и веками) формировалась культура семейного бизнеса: существуют династии промышленников, банкиров, фермеров, передающих дело по наследству. Для них нормально заранее обсуждать наследство, привлекать трастовые компании, создавать family office, писать семейные конституции.
В результате многие западные фамильные состояния живут поколениями – достаточно вспомнить династии Рокфеллеров, Ротшильдов, или, например, семью Уолтон (наследники Walmart), чьё суммарное состояние оценивается в сотни миллиардов долларов и успешно перешло ко 2-му и 3-му поколениям. Конечно, и там хватает драм, но в целом культура наследственного планирования развита. Более того, значительная часть семей привлекает молодое поколение к управлению – по крайней мере 59% семейных офисов планируют предоставить следующему поколению место в совете директоров семейной компании.
А что же в Евразии? Под Евразией мы имеем в виду прежде все постсоветское пространство, Россию и соседние страны, где крупный частный бизнес появился сравнительно недавно. В 1990-е и 2000-е выросло первое поколение богатых предпринимателей. Сейчас их детям 20–30 лет, и вопрос наследования выходит на первый план. Однако культура планирования пока отстаёт. По наблюдению многих экспертов, институт преемственности в России ещё молод и несовершенен. Значительное число основателей бизнеса относятся к идее передачи дела с недостаточным приоритетом, а где-то даже недоверием и скепсисом.
Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers и Сколково, почти треть российских предпринимателей первого поколения (31%) хочет лично руководить бизнесом до последнего, сколько сил хватит. Ещё 47% предпочли бы нанять сторонних топ-менеджеров, сохраняя за собой ключевые решения. И лишь 10% готовы передать контроль над компанией членам семьи. Получается, только каждый десятый задумался о том, чтобы активно вовлечь наследников в управление – цифра весьма небольшая. Неудивительно, что, как отмечает исследование, мало кто из владельцев капитала всерьёз планирует вопросы преемственности.
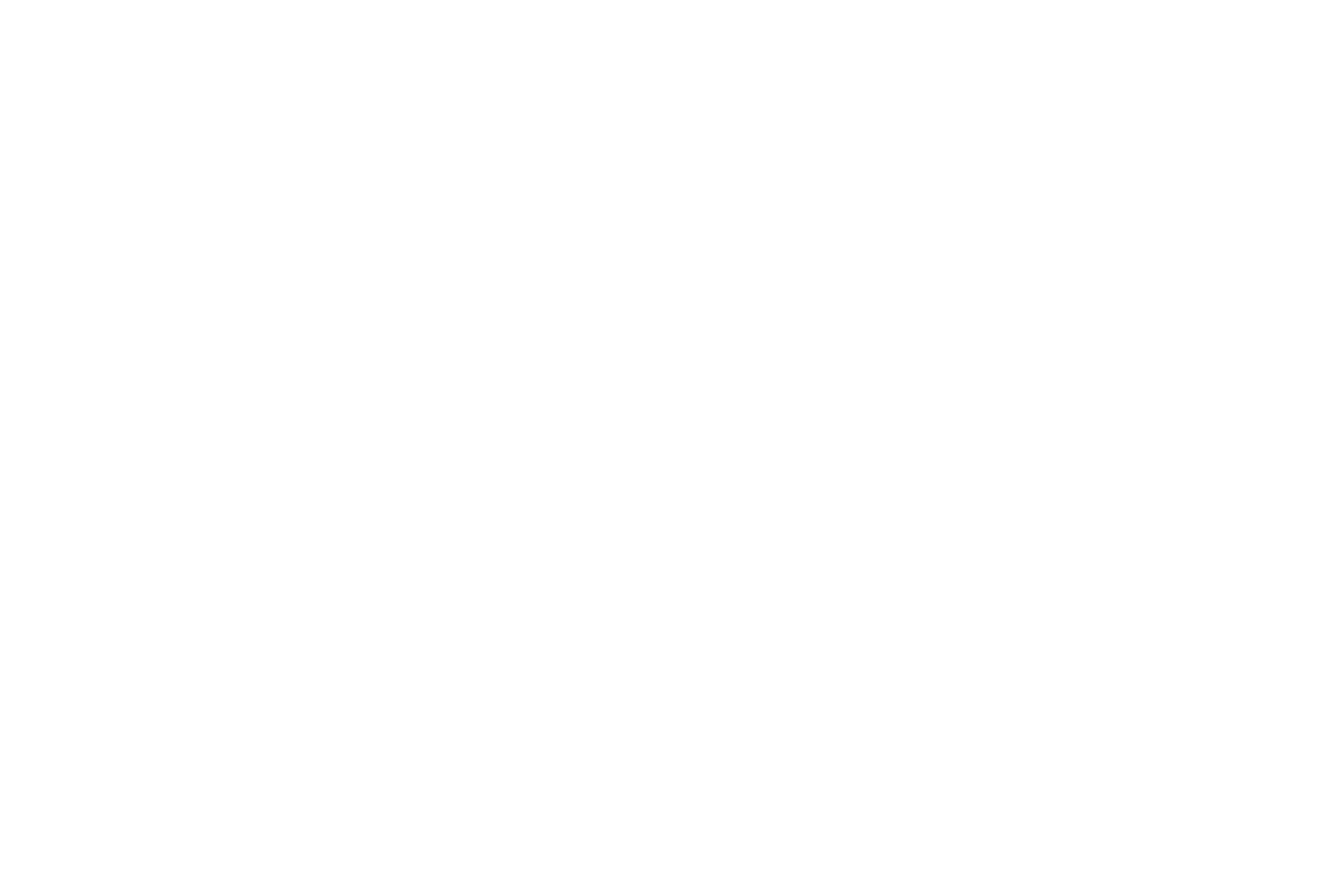
Предприниматель скончался без завещания, и начался затяжной корпоративный конфликт между четырьмя наследниками за его долю. В разгар спора компанию парализовало: производство останавливалось, около 80 фирменных магазинов временно закрывались. Бренд понёс огромные репутационные и финансовые потери, которые можно было бы избежать при наличии чёткого плана наследования. Этот случай – не единичный; в евразийском пространстве известны и другие примеры, когда внезапный уход основателя без преемника приводил к развалу бизнеса или поглощению его конкурентами.
В то же время, постепенно ситуация меняется к лучшему. Всё больше состоятельных семей в России, Казахстане, Украине и других странах СНГ начинают интересоваться инструментами наследственного планирования. Например, заметно выросло число составляемых завещаний и вводится новый институт наследственных фондов, которые можно создать согласно воле завещателя и тем самым сохранить управление активами после его смерти. Международный опыт тоже перенимается: семьи заводят семейные офисы, пользуются услугами консультантов по управлению благосостояниями, изучают практики западных династий.
Отдельно стоит отметить, что богатые семьи Евразии часто держат активы в нескольких странах – недвижимость в Лондоне, счета в Швейцарии, бизнес в России. Это порождает дополнительные сложности: нужно учитывать разные юрисдикции, чтобы наследники не увязли в правовых коллизиях и налогах. Поэтому крупные семьи всё чаще комбинируют международные инструменты с локальными: скажем, могут учредить зарубежный траст или фонд для части активов, одновременно составив завещание по российскому праву для другой части имущества. Главное – чтобы был общий семейный план и назначены ответственные лица.
Вывод: на Западе традиции преемственности сформировались давно, а в Евразии они только складываются. Но везде суть одна – без наследственного планирования велик риск, что семейное дело распадётся. Зато при грамотном подходе даже молодая первая генерация может заложить основу настоящей династии, которая выдержит проверку временем.
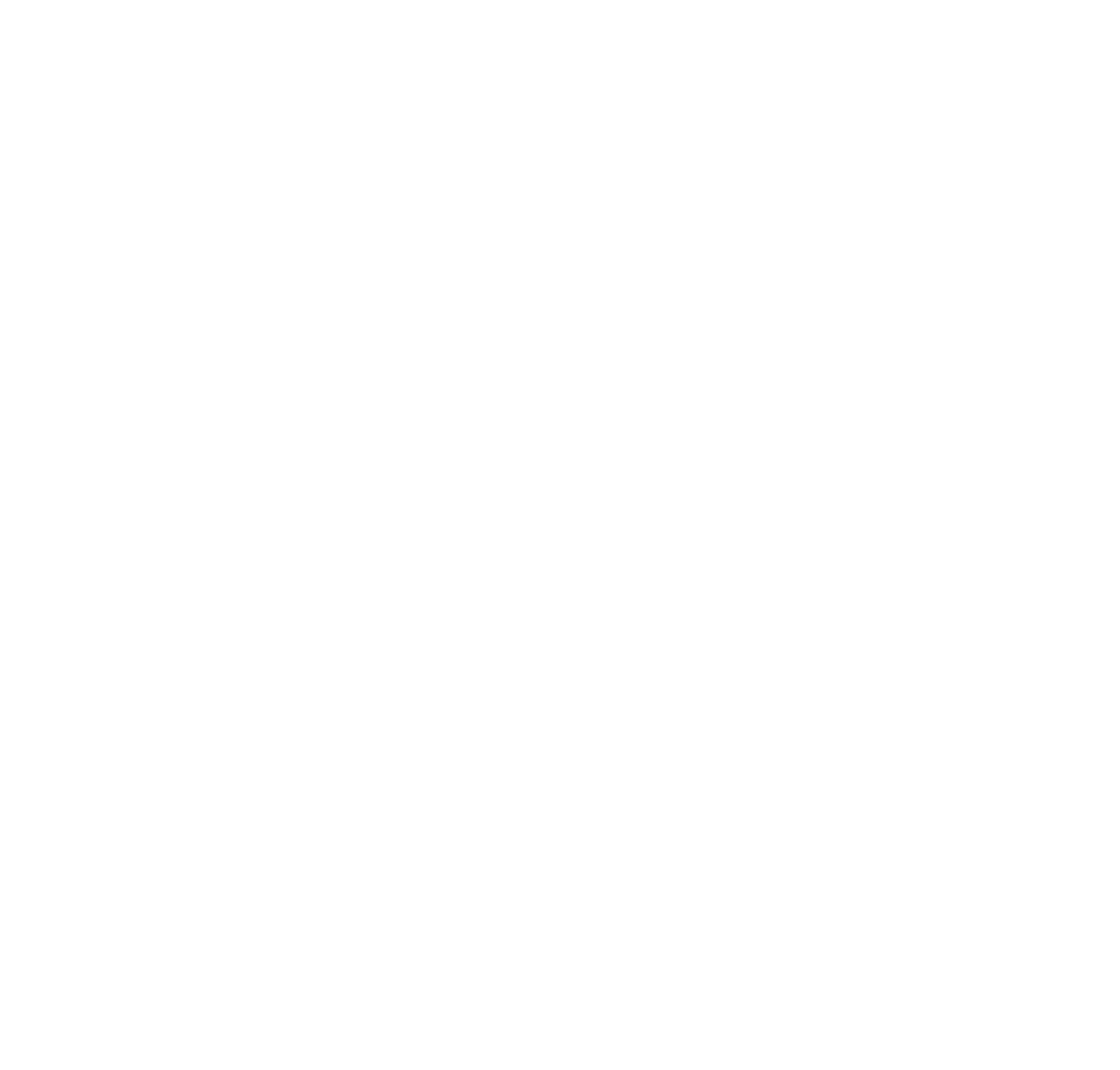
Ключевые вызовы и риски: от потери контроля до семейных драм
1. Отсутствие формального плана и учета активов.
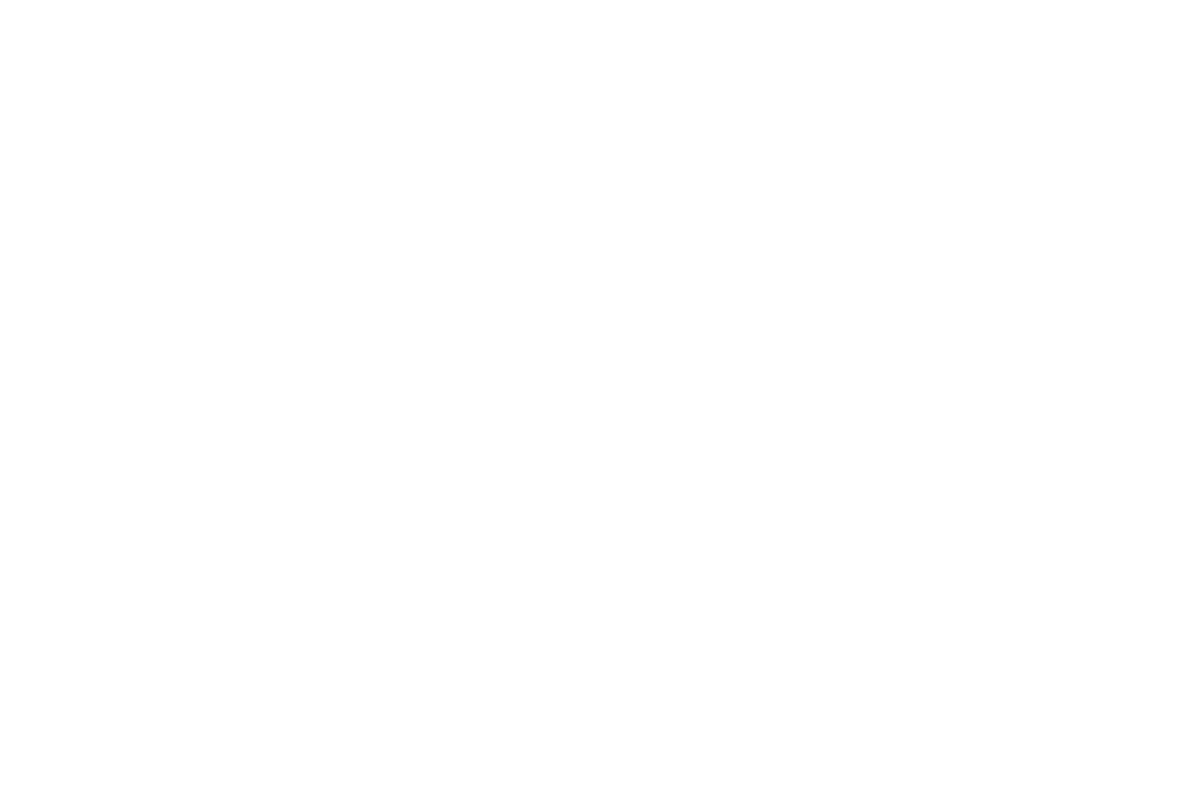
Такой сценарий реален, но чаще всего плана на этот случай нет, поэтому бизнес и семья оказываются в подвешенном состоянии. Кроме юридических распоряжений, уязвимым местом является учет активов. Богатые люди часто имеют обширные и разбросанные активы (счета, недвижимость, доли в компаниях, инвестиции по всему миру). Кто владеет полным списком? 87% респондентов Penguin Analytics признали, что хранят информацию о личном и семейном капитале неструктурированно или плохо. Популярные способы – «папка бумаг в шкафу» (25% случаев) или «список на листке» (еще 24%). Только 20% дошли до использования облачных хранилищ. Более того, 82% переживают, что данные об активах устаревают и не обновляются вовремя – но ничего не делают. В итоге наследники могут банально не найти часть имущества: как говорится, «не учтешь – потеряешь». Нотариусы отмечают, что немало активов вообще не переходят наследникам, потому что те не знают об их существовании.
Некоторые даже смирились: 6,7% опрошенных готовы потерять до 75% (!) активов. Это своего рода «плата за бездействие», как резюмируют авторы исследования. Цифры шокируют – значит, проблему недооценивать нельзя.
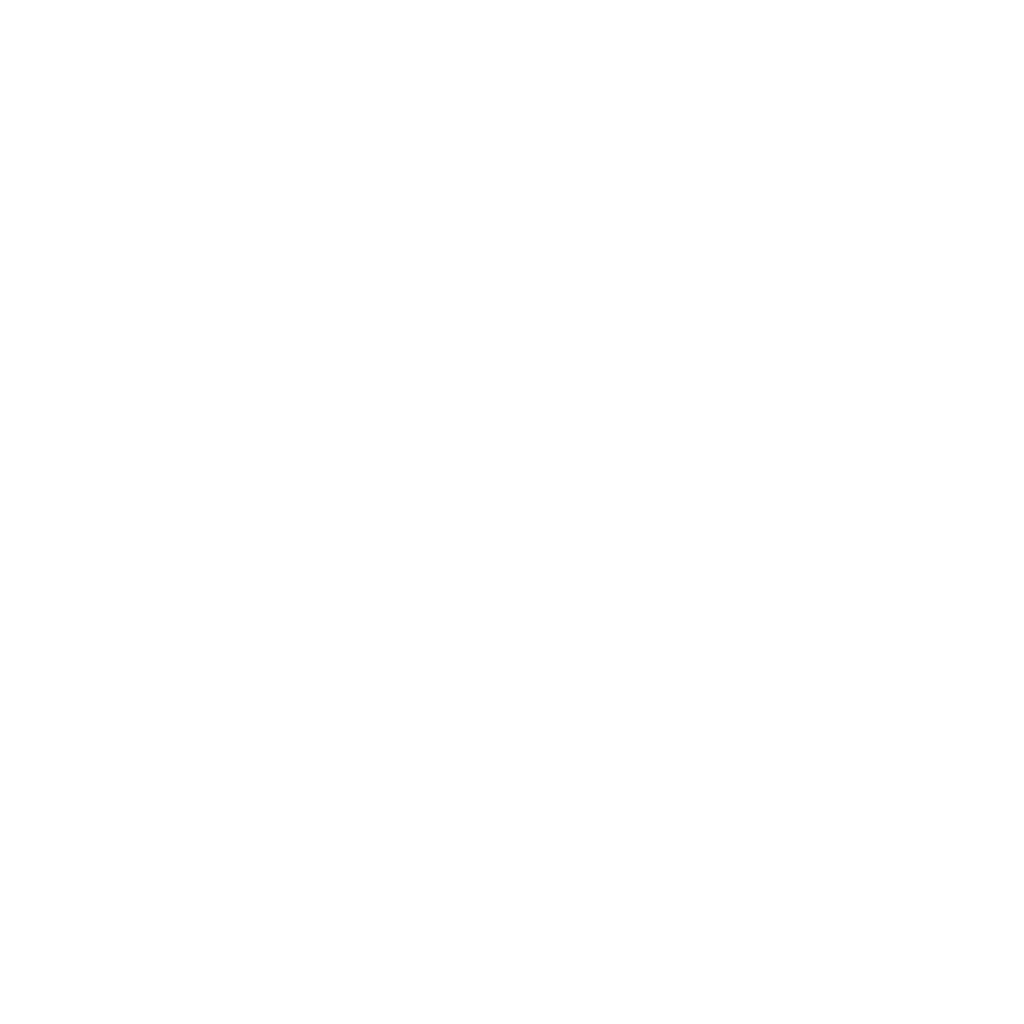
2. Неподготовленность наследников
Деньги передать легко, а вот умение ими управлять – куда сложнее. Часто наследники оказываются не готовы принять эстафету. Вот что пишет наш давний партнер ZEDRA: "Williams Group выяснила, что в 90% случаев утраты капитала к третьему поколению главная причина – неподготовленность наследников". Дети вырастают, не имея практики в бизнесе, не зная основ инвестиций, налогов, управления активами. Родители либо не вовлекали их, либо ограждали от «лишних хлопот». В результате, получив крупное наследство, молодые наследники совершают типичные ошибки – от неудачных инвестиций до банального растранжиривания.
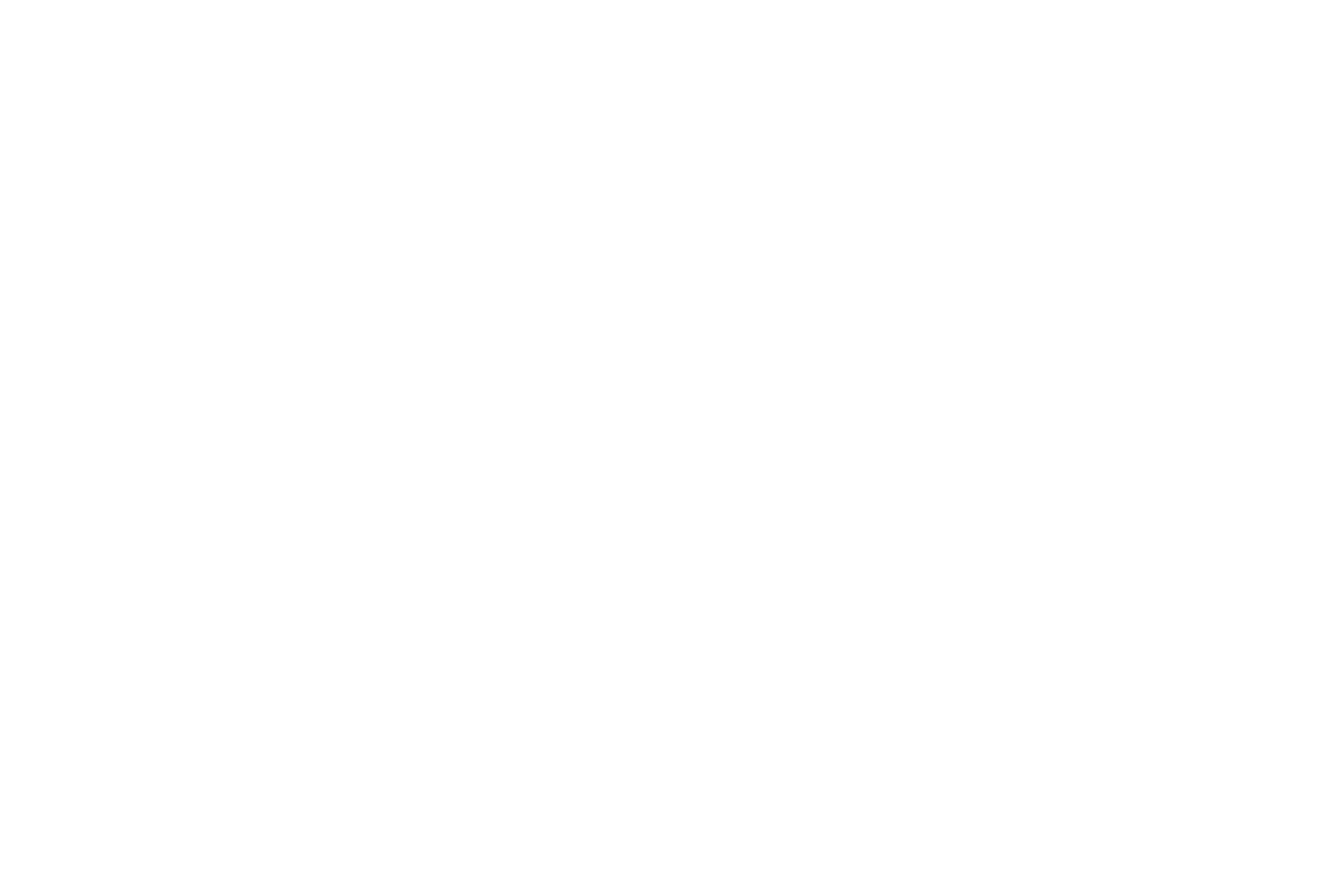
В итоге велик риск, что третье поколение просто растратит накопленное вторым. Недаром говорят: «Дети получают деньги, но не получают знаний, как ими управлять». Интересно, что порой сами наследники переоценивают свою готовность (включая упомянутого Кендалла) ⬇️
Более того Логан знал с кем так можно делать, а с кем нет и мог себе это, порой, позволить, каким бы бестактным не был такой подход. А от Кендалла это звучит нелепо и неуместно. Что предсказуемо приводит к последствиям.
Исследование Campden Wealth с BNY Mellon выявило разрыв в восприятии: 85% молодых представителей богатых семей уверены, что готовы к управлению наследием, тогда как лишь 39% семейных офисов разделяют это мнение. Следующее поколение оптимистично, но старшие поколения и советы директоров видят пробелы.
Опрошенные младшие наследники признают, что основными препятствиями к успешной передаче видят сложные семейные отношения и неясность ролей в бизнесе. При этом 66% молодых считают необходимым регулярно общаться между поколениями, а 63% готовы привлекать внешних экспертов, чтобы упростить передачу капитала. Таким образом мы видим что, следующее поколение хочет более открытого диалога и помощи – стоит воспользоваться этим.
А продиктованные планы редко переживают первую смену поколений.
Начинайте заранее, дайте им реальные роли (семейный совет, «теневое» голосование в инвесткомитете, небольшой P&L), и тогда формальное подчинение превращается в ответственное управление.
Прочитайте ниже нашу короткую заметку о том, что бывает, когда дело твоей жизни было передано не в те руки.
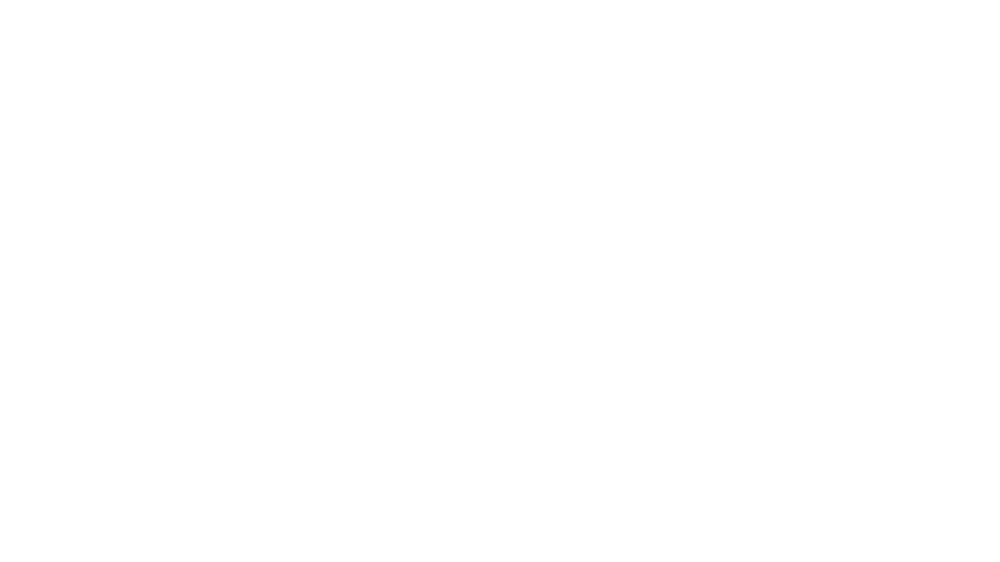
3. Семейные конфликты и отсутствие диалога.
Личные отношения – "ахиллесова пята" семейного дела. Без доверия и взаимопонимания даже самый прибыльный бизнес расколется под гнетом обид и амбиций. Увы, историй, когда династии рушатся из-за ссор наследников, предостаточно и Россия не исключение (никакая страна не исключение, давайте признаем). Многие наследственные эксперты отмечают, что в России бизнес-династий мало: их рушит разлад наследников. То есть наши предприниматели первого поколения либо не успели создать династий, либо конфликт поколений уничтожает бизнес еще на старте наследования.
🧳 Рокфеллеры vs Вандербильтов – шесть поколений против трёх, США 🇺🇸
В начале ХХ века фамилии Рокфеллер и Вандербильт были (да и остаются) синонимами гигантского состояния. Джон Д. Рокфеллер разбогател на нефти (Standard Oil) и стал одним из первых официальных миллиардеров. Корнелиус “Коммодор” Вандербильт сделал капитал на железных дорогах и морских перевозках ещё раньше, в XIX веке, и тоже оставил огромное наследство. Однако их потомки прошли диаметрально противоположные пути.
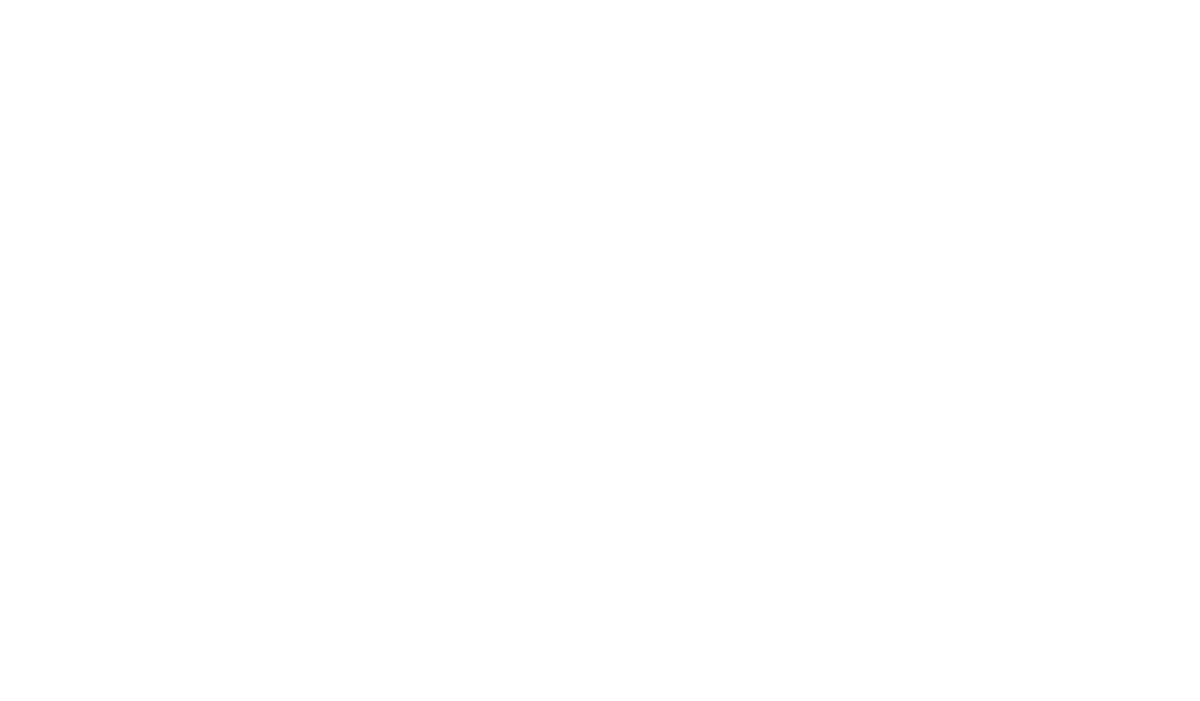
Кроме того, Рокфеллеры вложились в создание семейного офиса (фирма Rockefeller Financial Services с подразделениями по управлению инвестициями, страхованием, и даже венчурным капиталом). Они также приняли семейную конституцию – свод правил о том, как принимаются решения, как воспитывать новое поколение, прививать им ценности. Огромное внимание уделялось филантропии – Рокфеллеры считают благотворительность миссией, за столетие они отдали более $500 млн на разные нужды. Этот акцент на филантропии, кстати, часто помогает сплотить семью вокруг общего дела и одновременно уменьшает аппетит наследников просто прожигать деньги на себя.
Сегодня эта идея успешно используется многими семьями даже обычного среднего достатка: вы можете открыть страховой полис на любую сумму на каждого из членов семьи, и ваш семейный фонд, цель которого будет решать стратегические задачи – не иссякнет никогда (при должном использовании).
Сейчас (по состоянию на середину 2020-х) семейство Рокфеллер насчитывает более 150 человек, охваченных трастом. Их совокупное состояние оценивалось примерно в $8–10 млрд – не такое впечатляющее по сравнению с предком (тот владел состоянием, эквивалентным $300–400 млрд в сегодняшних деньгах), но важно понимать: большая часть денег была потрачена на благотворительность, создание университетов, музеев и т.п.
То есть деньги не пропали впустую, а пошли на добрые дела, и при этом семья осталась обеспеченной и влиятельной (есть сенаторы, финансисты, деятели искусства среди потомков). Трасты продолжают работать, фонды – финансировать проекты, фамилия – ассоциируется с устойчивым наследием.
Её сын, телеведущий Андерсон Купер, открыто говорил: “В моей семье деньги закончились, мама сама сделала карьеру, а мне вообще ничего не перепало – я зарабатываю на новостях”. Он считает, что передача больших денег лишь портит детей, и не собирается особо оставлять своим сыновьям состояние.
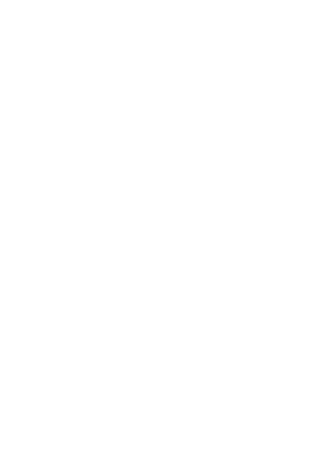
Как бы то ни было, династии Вандербильтов как финансовой силы больше не существует – остались только известные фамилии и исторические особняки, многие из которых проданы или стали музеями.
В чем ключевое отличие? В отсутствии плана.
Вандербильты не создали трастов, не было единого фонда или семьи как корпорации. Каждый наследник тратил свою часть как хотел – кто-то успешно, но многие нет. Не было ограничителей и воспитания финансовой грамотности у потомков. В результате сработало то самое проклятие “shirtsleeves to shirtsleeves” (из богатства в бедность за три поколения). Самое что ни на есть наглядное предупреждение: даже самое огромное состояние можно исчерпать, если не защищать и не управлять им сообща.
🧳 Lowy vs Fairfax – единство капитала vs равный раздел, АВСТРАЛИЯ 🇦🇺
Эта пара примеров интересна тем, что обе – относительно современные (конец XX – начало XXI века) и наглядно показывают влияние принципа наследования на бизнес.
К 2010-м Westfield стала мировым девелоперским гигантом, Франк – миллиардером, его сыновья Питер, Стивен и Дэвид занимали руководящие посты. Семья Лоуи подошла к вопросу транзита власти и капитала прагматично: в 2018 году было решено продать компанию Westfield (европейскому консорциуму Unibail-Rodamco) за ~ $16 млрд.
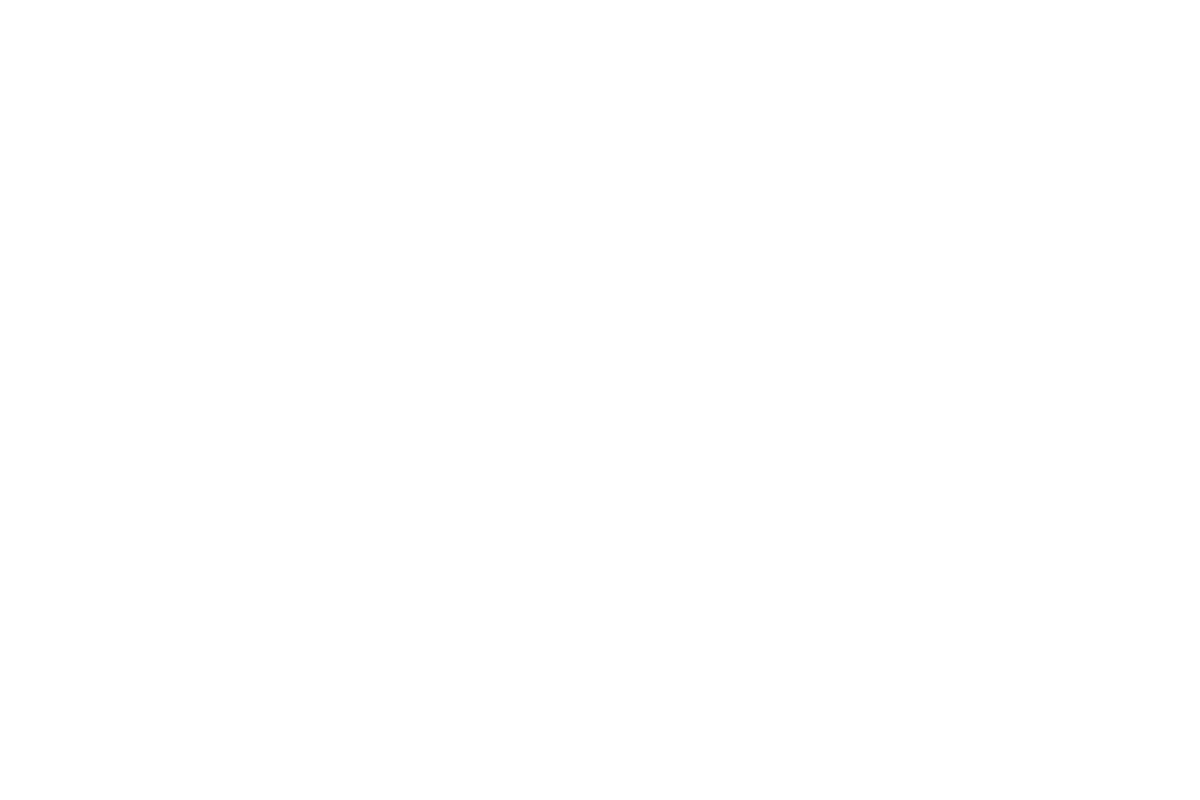
За долю семьи (около 9%) они получили комбинацию кэша и акций покупателя на сумму порядка $2 млрд (разные источники называют цифру до $3 млрд). Эти средства были объединены в семейный инвестиционный фонд (Lowy Family Group). Управление средствами стало напоминать фонд Рокфеллеров: наёмные управляющие, диверсификация инвестиций (часть в недвижимость, часть в финансы, венчур и т.д.). Семья фактически трансформировала бизнес-капитал в финансовый, избежав потенциальных споров между наследниками за контроль над компанией. Каждый сын получил свою роль, но решения по крупным вложениям принимались коллективно, следуя некой “конституции семьи Лоуи”.
Эффект оказался отличным: за несколько лет активы семьи выросли (с $3 до $9 млрд). Возможно, тут есть преувеличение, но факт в том, что продав бизнес на пике, семья сумела сохранить и увеличить благосостояние. Кстати, Франк Лоуи после продажи уехал на историческую родину, в Израиль, передав дела сыновьям – это тоже элемент планирования: выбрать комфортную юрисдикцию на пенсии.
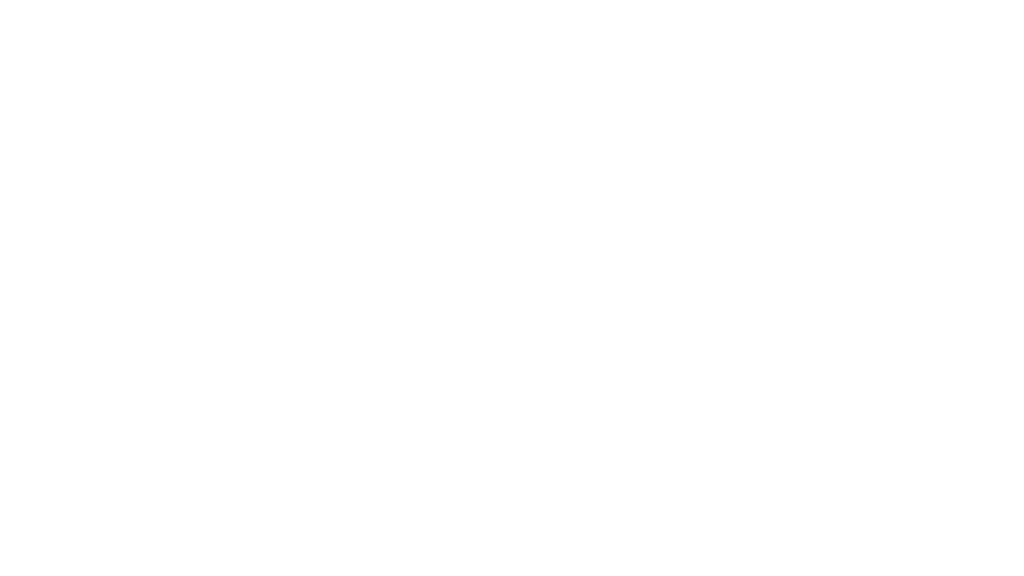
В итоге компания Fairfax растеряла позиции и была поглощена (слилась с другим холдингом) в 2018 году, прекратив существование как независимая фирма. Семья, владевшая СМИ империей полтора века, лишилась и бизнеса, и влияния. Для Австралии это был громкий пример, как “третье-четвёртое поколение спустило наследство”. Прямого разорения не случилось – потомки наверняка получили деньги от продажи акций – но династия предпринимателей фактически прекратилась. Одной из причин обозреватели называют именно отсутствие единой стратегии: слишком много акционеров-родственников с равными правами, никто не имел мажоритета или полномочий. Это привело к неспособности конкурировать в новом веке.
Сопоставление Lowy и Fairfax даёт важный урок: когда семья владеет бизнесом, важно либо держаться единым фронтом, либо вовремя выйти.
- Fairfax пытались удержать наследие, но разобщённо – и по итогу проиграли.
- Lowy решили, что лучше консолидированно выйти и сохранить капитал, чем потом братьями делить "кормушку" – и выиграли.
Ну и еще один поучительный момент: семья Лоуи – первое поколение, они сами принимали решение. В семьях же, где наследство переходит 2-3 раз, часто уже некому принять жёсткое решение типа продажи – люди просто получают “пайки” и плывут по течению. Поэтому основателям полезно заранее подумать: а смогут ли мои дети вместе эффективно владеть заводом/банком/фирмой? Если есть сомнения – может, правда лучше продать и оставить им портфель инвестиций?
Переход от активного бизнеса к пассивному капиталу – нередкая стратегия для богатых, желающих избежать сценария “наследники перегрызлись в совете директоров”. Конечно, это зависит от конкретных людей: иногда дети отлично продолжают дело предков (пример – семейство Анненберг в США, где дочь медиамагната не растеряла, а приумножила активы и престиж). Но часто рулевой талант не наследуется, и тогда семейный офис вместо семейного завода – более надёжный способ сохранить богатство.
🧳 FORD, США 🇺🇸
Отношения Генри Форда и его сына Эдсела были напряжёнными, хотя формально именно Эдсел с 1919 года занимал пост президента Ford Motor Company. Генри Форд, оставаясь главным акционером и харизматичным лидером компании, фактически продолжал принимать ключевые решения, часто игнорируя мнение сына. Биографы отмечают, что Эдсел, человек более мягкий и склонный к инновациям (он продвигал дизайн, комфорт и модернизацию моделей), нередко сталкивался с сопротивлением отца, который предпочитал жёсткую стандартизацию и консервативный подход к бизнесу. Конфликты усугублялись тем, что Генри Форд оставлял за собой право вето, а Эдсел вынужден был балансировать между интересами компании, сотрудниками и волей отца.
Эдсел умер в 1943 году от рака желудка в возрасте 49 лет, и его смерть стала серьёзным потрясением для компании. Уже через два года, в 1945-м, руководство перешло к внуку Генри, Генри Форду II, который первым делом радикально перестроил управленческую структуру, уволив главного силовика и советника старшего Форда — Гарри Беннетта, и начал модернизацию корпоративного управления. Этот шаг историки называют символическим завершением эпохи личного контроля Генри Форда и началом превращения Ford Motor Company в более профессионально управляемую корпорацию.
🧳 GUCCI, ИТАЛИЯ 🇮🇹
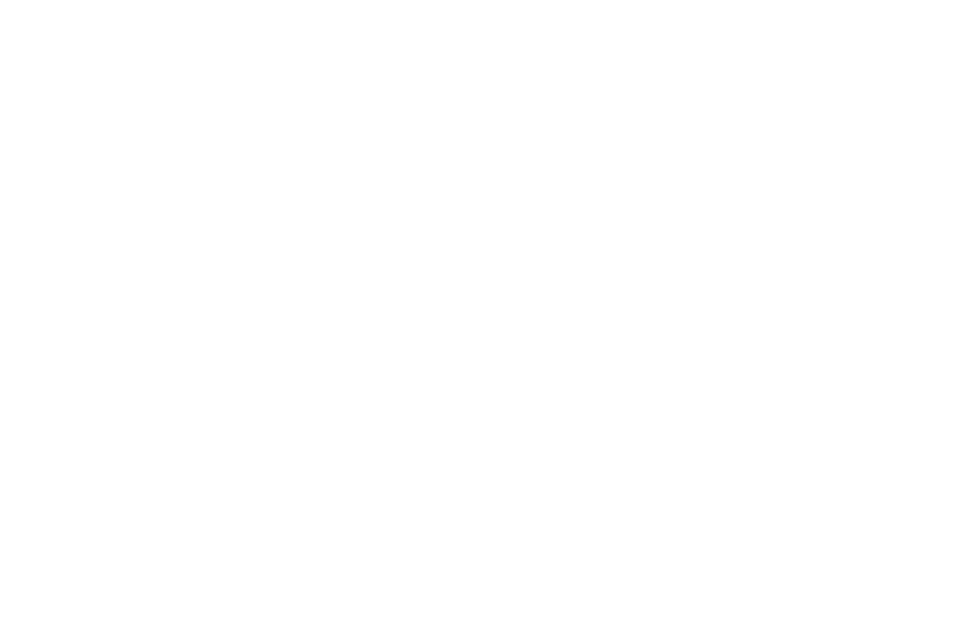
Апогеем драмы стало убийство Маурицио Гуччи, внука основателя дома. 27 марта 1995 года его застрелили у офиса в Милане. В 1998 году суд признал бывшую жену Маурицио, Патрицию Реджиани, виновной в организации убийства и приговорил её к 29 годам заключения (она отбыла 18 лет и вышла в 2016-м). На процессе Патриция произнесла ставшую известной фразу «It was worth every lira» ("Это стоило каждой лиры"), подтверждая, что заказала убийство сознательно. Эта история стала одним из самых громких примеров того, как семейные конфликты и отсутствие единой стратегии привели к краху династии.
Конечно, это экстремальные примеры – своего рода «как не надо». Но они наглядно показывают, к чему приводят отсутствие доверия, жажда контроля, неумение отойти от дел и замалчивание проблем.
🧳 Цун Цинхоу – ex-богатейший человек и стоимость промедления, КИТАЙ 🇨🇳
Казалось бы, столь крупный бизнес должен был быть чётко распланирован для передачи наследникам. Должны быть консультанты, юристы и советники.
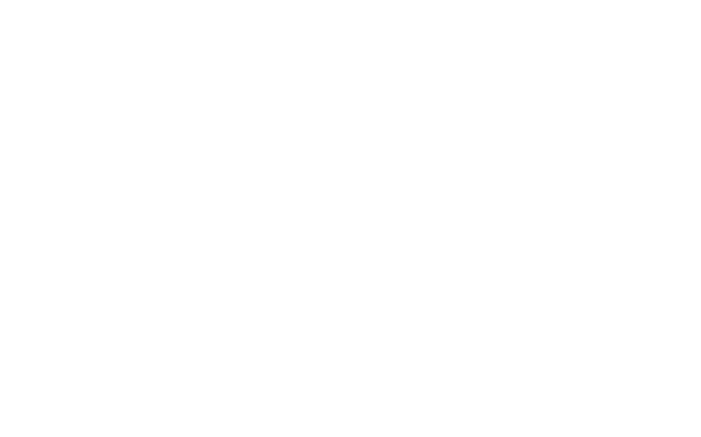
Но, не тут то было: когда 79-летний Цун скончался в 2024 году, всплыл сюрприз – помимо известной единственной дочери (Келли Цун, официальная наследница), у него оказались трое внебрачных детей. И началась многоюрисдикционная война за наследство. Как выяснилось, незадолго до смерти Цун попытался создать для этих троих детей трасты на ~$2,1 млрд (по $700 млн на каждого) через счета в гонконгском банке HSBC. Но не успел довести процесс до конца: что-то было переведено, что-то нет. В итоге трое “тайных” наследников подали в суд в Гонконге, требуя заморозить ~$1,8 млрд на счетах, которые контролирует дочь Келли. Параллельно они судятся в материковом Китае за права на доверительные фонды, которые, по их словам, отец им обещал. Суд Гонконга наложил временный запрет Келли распоряжаться активами, частично парализовав семейные финансы. Ситуация усугубляется тем, что Келли – долгие годы считалась единственной наследницей и уже вступила во владение группой компаний, а теперь вынуждена защищаться от трех сводных родственников, о существовании которых публика узнала лишь сейчас.
Этот кейс показателен сразу по нескольким аспектам:
- Промедление с планированием. Цун Цинхоу, будучи в преклонном возрасте и имея огромный капитал, до последнего откладывал наследственное планирование. Возможно, он не хотел афишировать внебрачных детей, может, надеялся, что “само образуется”. Лишь когда здоровье пошатнулось, он начал лихорадочно создавать трасты. Но времени не хватило, и теперь семья увязла в судах;
- Отсутствие прозрачности. Не посвящение основной наследницы в планы по тайным детям привело к полному раздраю. Если бы при жизни он договорился мирно (например, выделил доли или создал прижизненные фонды), скандала можно было избежать. Сейчас же репутации нанесён удар – пресса разумеется смакует семейные дрязги;
- Юрисдикционные сложности. Дело идёт сразу в Китае и Гонконге, возможно, и в других местах. Это затратно, долго и грозит тем, что активы окажутся замороженными на годы. По сути, капитал не работает и находится под арестом, хотя бизнесу надо двигаться. Такой исход – мечта конкурентов и кошмар наследников;
- Эрозия стоимости. Пока наследники судятся, компания Wahaha тоже страдает: конкуренты отбирают рынок, сотрудники нервничают. Стоимость бизнеса может упасть, так что даже победитель получит меньше, чем мог бы.
В сухом итоге: даже самый богатый человек страны не защищён от последствий отсутствия чёткого плана. Эта история – урок для всех HNWI: никогда не рано заняться наследственным планированием. Особенно если есть сложные обстоятельства (несколько семей, дети от разных браков). Чем раньше и более открыто выстроена структура – траст, завещание, фонд – тем меньше шансов, что после ухода патриарха наследники перегрызутся и обесценят наследие.
Обычно китайские миллионеры славятся скрытностью и не всегда спешат передавать контроль (подтверждаем, у нас немало кейсов оттуда). Но теперь, после случая с Wahaha, многие состоятельные семьи встревожены: заговорили о необходимости создавать семейные трасты и фонды заранее, привлекать профессионалов, пока живы и здоровы. И это справедливо не только для Китая.
🧳 Гостиница Nishiyama Onsen Keiunkan: 53 поколения бизнеса, ЯПОНИЯ 🇯🇵
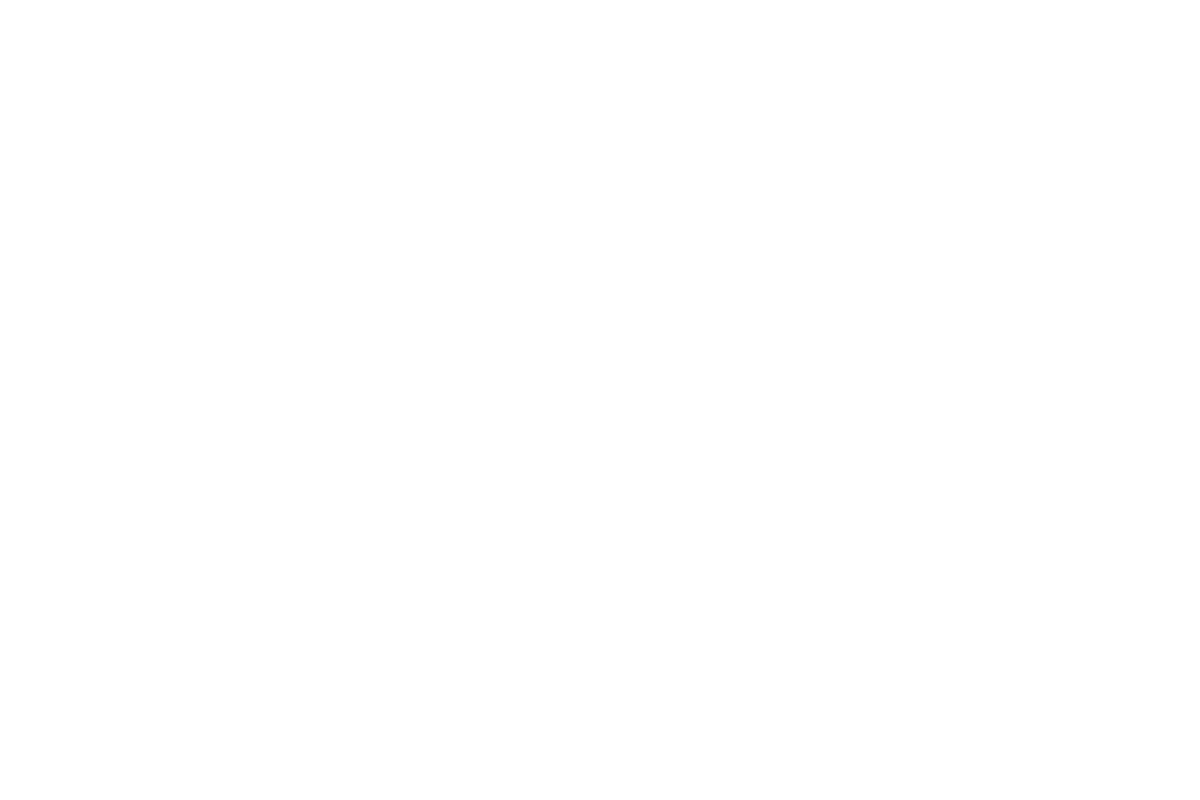
Секрет устойчивости — в японской философии ие (家), где семья и бизнес — это одно целое. Каждый новый глава рода воспринимает себя не владельцем, а временным хранителем, чья задача — передать дело следующему поколению в лучшем состоянии, чем он получил.
Удивительно, но даже в XXI веке гостиница остаётся верна традициям. В номерах нет телевизоров, но есть натуральные онсэны с водой из того самого источника, описанного в хрониках эпохи Нара. При этом Keiunkan модернизировалась: добавлены современные инженерные системы и онлайн-бронирование, но с сохранением философии «омотэнаси» — глубокого уважения к гостю.
В 2011 году Книга рекордов Гиннесса официально признала Nishiyama Onsen Keiunkan самой старой действующей гостиницей в мире. Более 1300 лет — и всё в руках одной семьи. Этот пример показывает, что преемственность — это не столько юридические схемы, сколько культура и система ценностей, которая передаётся вместе с бизнесом.
Семейный бизнес и школа преемственности. До 2017 года рёкан передавался 52 поколения подряд, включая усыновлённых наследников — нормальная для Японии практика, когда в бизнес принимают взрослого преемника (часто зятя), чтобы сохранить фамилию и дело (mukoyōshi). Поворот 2017 года: когда в семье не нашлось желающего принять управление, президентом стал многолетний гендиректор Кэндзиро Кавано; старый холдинг Yushima ликвидировали, активы перевели в новую компанию Nishiyama Onsen Keiunkan Limited. Операционная деятельность не прекращалась.
Как держится «ДНК» бренда? За 1 300+ лет гостиница многократно обновлялась, но базовая идея — горячие источники Хакухо и гостеприимство — неизменны. Крупные шаги модернизации: превращение в полноценный рёкан (гостиница) с приватными номерами в 1997 г., добавление частных онсэнов (горячих источнков) в каждом номере в 2005 г. Сегодня у отеля 37 номеров, он перекачивает до 1 000 л/мин природной термальной воды и даже имеет площадку для «созерцания луны». Не в последнюю очередь роль сыграли социальные "трофеи": среди гостей упоминаются полководцы Такэда Сингэн и Токугава Иэясу; региональные путеводители подчёркивают статус рёкана как «самого старого в мире» и важной точки притяжения префектуры Яманаси.
Почему это важно для темы преемственности. Keiunkan — классический японский shinise («старинное предприятие»): они веками совмещали чёткую миссию (источник + сервис) и гибкую передачу власти (включая усыновление взрослых преемников). Исследования по японским семейным фирмам показывают, что усыновлённые наследники нередко эффективнее кровных — как механизм отбора управленцев и дисциплины для «кровных» наследников.
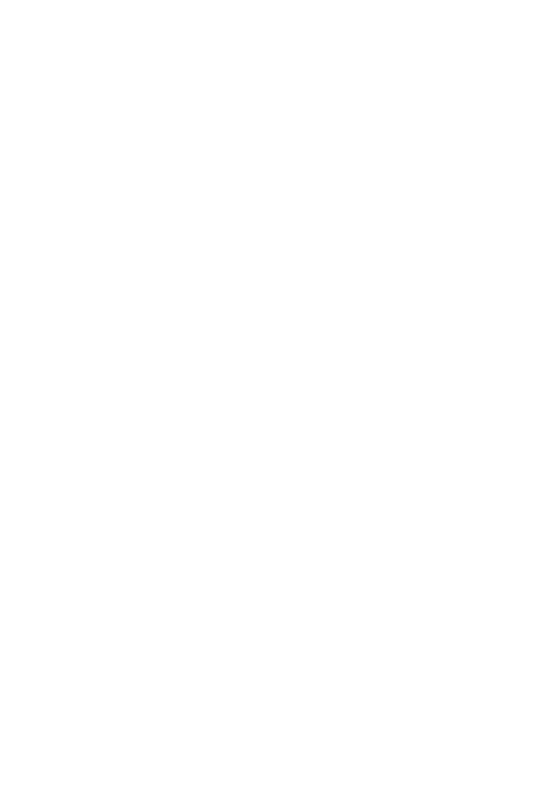
На Booking.com, кстати говоря, гостиница имеет высокий рейтинг, однако забронировать в настоящее время её нельзя.
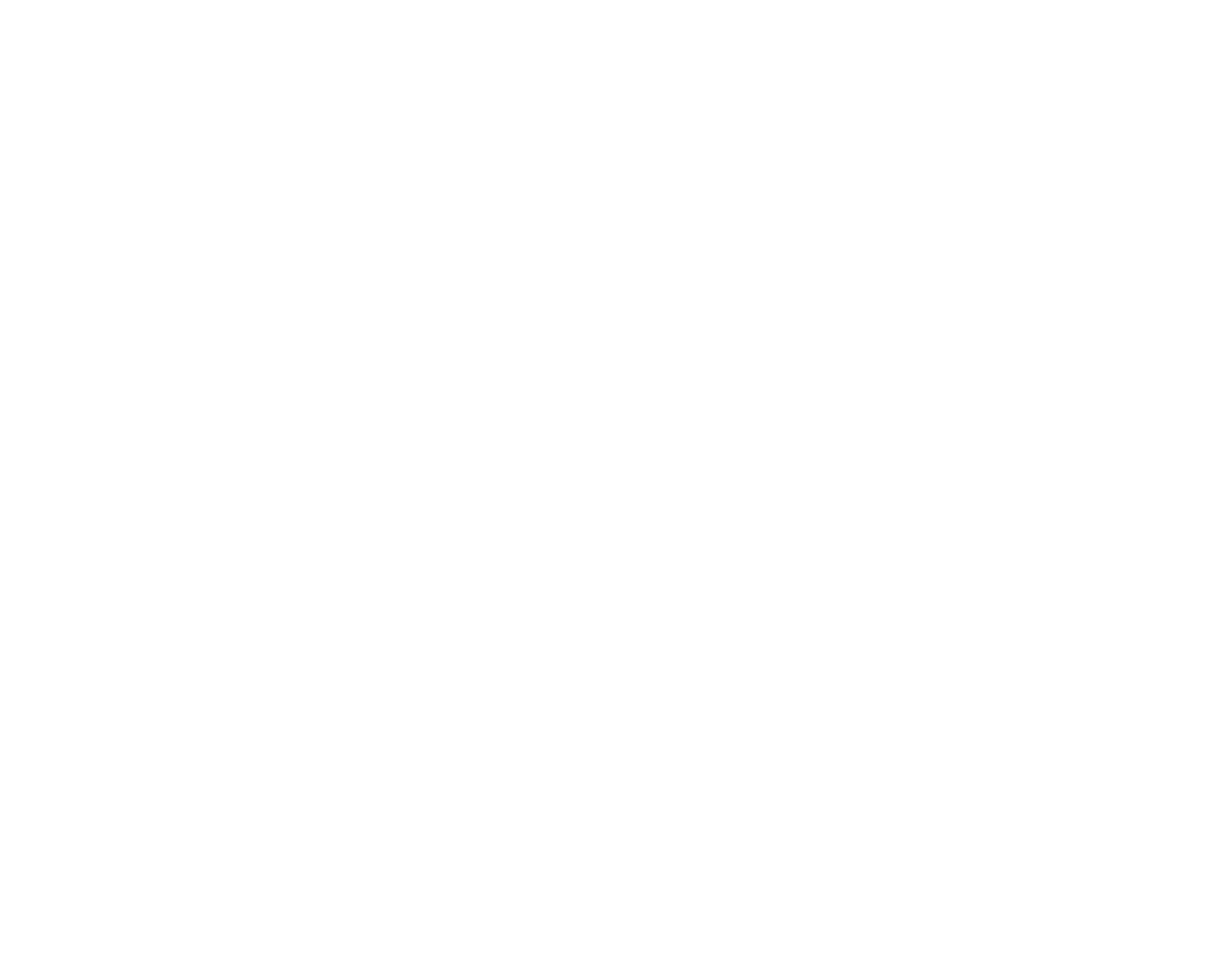
Мы не знаем перейдет ли бизнес к 54 поколению. Сейчас его дела обстоят не лучшим образом - он переживает финансовые трудности, однако владельцы надеются, что хотя бы в каком-то виде это место будет жить и дальше.
🧳 Setaro — макаронный бизнес в 3 поколении, ИТАЛИЯ 🇮🇹
Pastificio Fratelli Setaro — ремесленная мануфактура пасты, основанная в 1939 году Нунциато Сетаро в городе Торре-Аннунциата у подножия Везувия. Изначально он выкупил действующий цех, чтобы сохранить местную традицию, когда мелкие лаборатории закрывались под давлением крупных игроков. Сегодня это уже третье поколение семейного бизнеса. С одной стороны это не новички, но и не бизнес "53 поколения". А с другой - будет интересно посмотреть как бизнес переживет то самое существующее или несуществующее "проклятие третьего поколения",
Семья и преемственность. После основателя дело развивали сын и внуки; сейчас фабрикой управляют братья семейства (в открытых источниках упоминаются Винченцо, Нунцианте и Сальваторе), сохраняя ручные операции и «семейный» контроль над качеством. К 80-летию производства (2019) они подтвердили курс на традицию и локальные корни бренда.
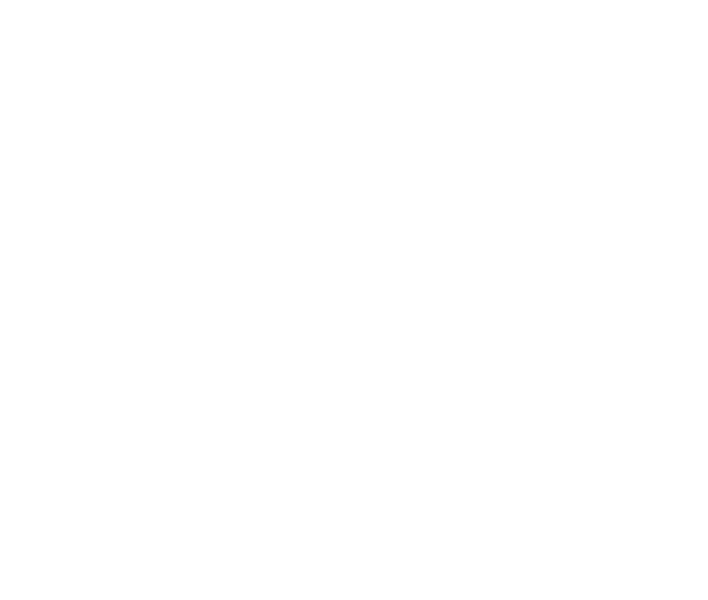
Почему именно Торре-Аннунциата. Это одна из исторических «столиц пасты»: ещё с XVI века здесь строили мельницы и сушили макароны, пользуясь ветрами залива Неаполя. Климат и сырьё задали ремеслу ритм и стандарты, которые Setaro сознательно бережёт. Производство является своего рода "местом силы", так как до сих пор находится в историческом здании начала XIX века в центре Торре-Аннунциаты — его изначально строили именно как макаронную фабрику; тут же отмечали и 80-летний юбилей.
Культурная часть бренда. Для местных Setaro — «праздничная паста»: жители до сих пор приходят покупать её прямо на фабрику, особенно к большим датам. Это редкий пример, когда семейная компания одновременно удерживает ремесленную идентичность и служит «якорем» локальной экономики. Бренд ценят шефы и медиа: например, Джада Де Лаурентис
(итало-американская повар, телеведущая и автор кулинарных книг) называет Setaro одним из своих любимых производителей сухой пасты; в публикациях отмечают, что у истоков семейного бизнеса — формы вроде «fusilli», скрученные вручную на спицы/иглы (традиционная техника региона, позже механизированная).
Отдельное неподдельное умиление в контексте преемственности, вызывает техническая консервативность их сайта: он до сих пор существует в виде страниц, написанных на html. Этот способ - начала 200х годов и уже давно не используется. Что-то в этом есть :)
Вывод: главным риском и источником проблем при передаче наследия является отсутствие семейного диалога и планирования преемственности. Деньги и власть легко сеют раздор, если вовремя не обсудить правила игры. Семье нужна общая стратегия: кого готовим в преемники, какие ценности важны, как будем делить активы, кто за что отвечает. Если эти вопросы пущены на самотёк, велик шанс повторить судьбу Фордов или Гуччи, а не Рокфеллеров и Setaro.
Он может утаивать информацию о делах, контролировать расходы наследников, навязывать детям участие в бизнесе без учета их желаний. Всё это копит обиды и отчуждение.
А когда такой «отец-командир» внезапно уходит (или его не становится) – дети оказываются и не готовы управлять, и не желают продолжать «дело тирана». Бизнес распадается, семья тоже".
Риски и потери при отсутствии наследственного планирования
Мы уже упоминали ряд негативных последствий, когда преемственность не проработана. Для закрепления картины широкими "скрепками" сведём основные риски и возможные потери в одном месте – это своего рода мотивационный раздел, почему нельзя откладывать вопрос наследства “на потом”:
Без чёткого плана компания может перейти к неподготовленным людям или распасться между наследниками. Конфликты совладельцев, споры о долях, судебные тяжбы – всё это парализует работу.
Примеры не заставят себя ждать: от семейных ресторанов, закрывшихся из-за ссор братьев-наследников, до многомиллиардных корпораций, ставших объектом раздела и продажи.
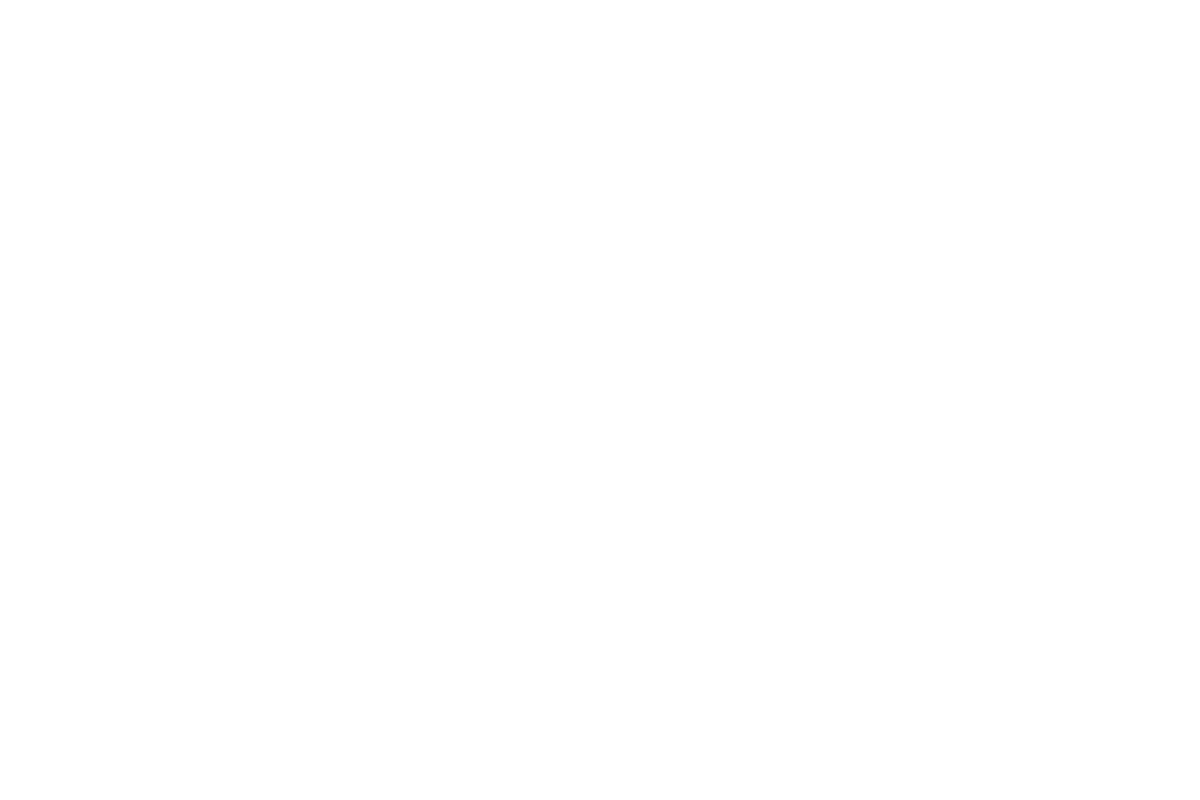
Статистика печальна – три четверти семейных компаний не переживают переход ко второму поколению, не говоря уже о третьем. Особенно уязвимы бизнесы, где знания и связи сосредоточены в голове основателя: с его уходом рушатся и операции.
⭕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ И ИЗДЕРЖКИ.
Трансфер капитала без планирования чреват значительными издержками. Во многих юрисдикциях наследство облагается налогом (например, в США ставка федерального estate tax достигает 40%, во Франции и Японии аналогичные налоги тоже под 40–55%). Если не подготовиться, семье придётся спешно искать деньги на уплату налогов, зачастую распродавая часть активов по дешевке. Кроме налогов, есть судебные расходы, гонорары юристов – все хотят свою долю. По оценке Penguin Analytics, в среднем до 31% богатства “испаряется” при передаче – в виде налогов*, расходов, упущенных доходов и просто пропавших без вести активов.
*В целом налоговое планирование - это та часть финансового плана, которая должна показывать вам будущие налоговые затраты уже сегодня. Хотя бы примерные. В противном случае все многолетние усилия могут свестись к нулю. Консультируйтесь с налоговым специалистом, стройте гибкие прогнозируемые структуры.
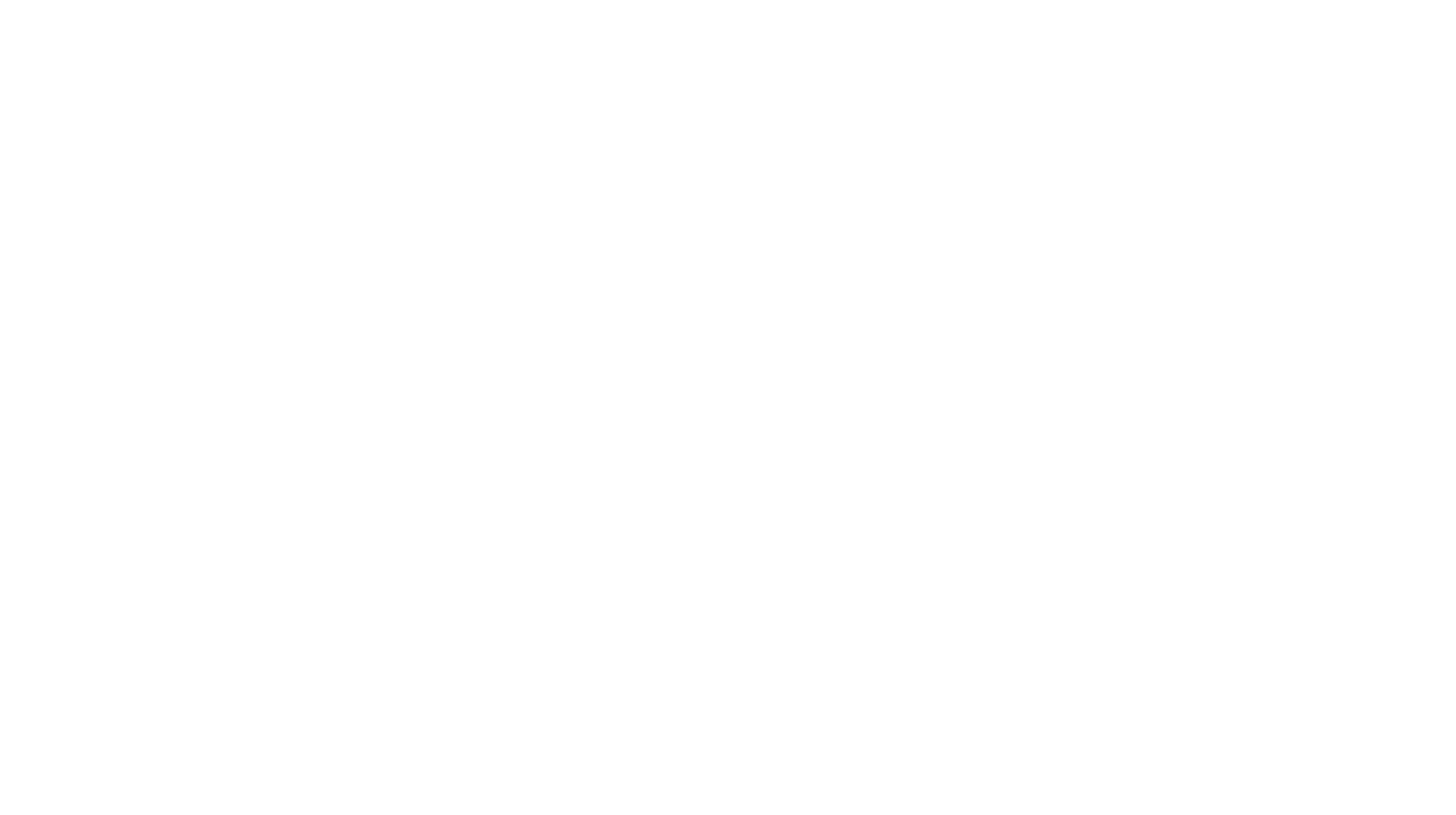
Говоря о потерях при передаче стоит упомянуть, что далеко не все богатые люди ведут инвентаризацию своих активов: настоящий случай, когда у одного очень состоятельного человека после смерти обнаружились счета и инвестиции, о которых семья не знала, и часть из них так и осталась невостребованной (пропала). К сожалению, 97% владельцев по-прежнему ведут учёт активов “вручную” или несистемно (записки, Excel, устная память).
Отсюда – пропущенные счета, забытые земли, брошенные биткойны на зашифрованном диске. Сюда же можно добавить риск мошенничества: недобросовестные лица могут воспользоваться неразберихой, чтобы присвоить себе часть наследства (как минимум завысить гонорары за “помощь” или скрыть активы). Отсутствие прозрачного плана – праздник для мошенников.
⭕ УГРОЗА ДЛЯ СЕМЬИ И ДИНАСТИИ.
Когда нет плана, страдают человеческие отношения. Еще вчера дружная семья может расколоться на враждующие лагеря из-за наследства. Судебные процессы между родственниками длятся годами, пока оплата адвокатов тихо проедает состояние наследодателя. Как мы видели в примере Трубникова, затяжной конфликт вокруг наследства способен повредить и репутации семейного бренда. Вдобавок без стратегии преемственности часто происходит “размывание” капитала: каждый наследник получает кусочек, распыляет на личные проекты, и общий вес семьи в бизнес-мире падает.
Там, где могла быть консолидированная финансовая империя, остаются несколько разрозненных состояний, каждое из которых уже несопоставимо с изначальным. В итоге через поколение-другое Семья перестаёт что-либо значить. Для тех, кто мечтает основать именно династию, отсутствие планирования – верный путь эту мечту похоронить. Недаром лишь 5% опрошенных осознают, что состояние порядка $1–100 млн может не пережить даже одно поколение, и в 69% случаев при отсутствии плана уровень жизни семей снижается после передачи богатства.
⭕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
В современном мире к наследникам могут быть вопросы не только от жадных родственников, но и от государства. Комплаенс, проверка источников происхождения средств (Source of funds / Source of wealth документация) – всё это свалится на семью. По данным опроса, 92% основателей недооценивают важность документирования источника богатства. В итоге при переводе активов наследникам банки могут заморозить счета “до выяснения”, налоговые органы – пересмотреть сделки, и т.д. Если всё готово – документы, трасты, договоры – этот риск снижается. Если нет – кто первый подаст иск, тот и прав.
Finextra со ссылкой на Penguin Analytics приводят кейс: большая семья имела 40% активов в четырёх разных юрисдикциях, записи о которых хранились кто в PDF, кто в бумажках, кто вообще в голове. Когда основатель внезапно стал недееспособен, за три месяца не удалось собрать подтверждения даже на 60% активов – не потому что их украли, а потому что “они невидимы”: разбросанные данные, отсутствие единого реестра, сложные схемы без описаний. Финансовые институты потом годами разбираются, принадлежат ли эти активы наследникам и на каких условиях. Все эти сложности – следствие недостаточного предварительного планирования.
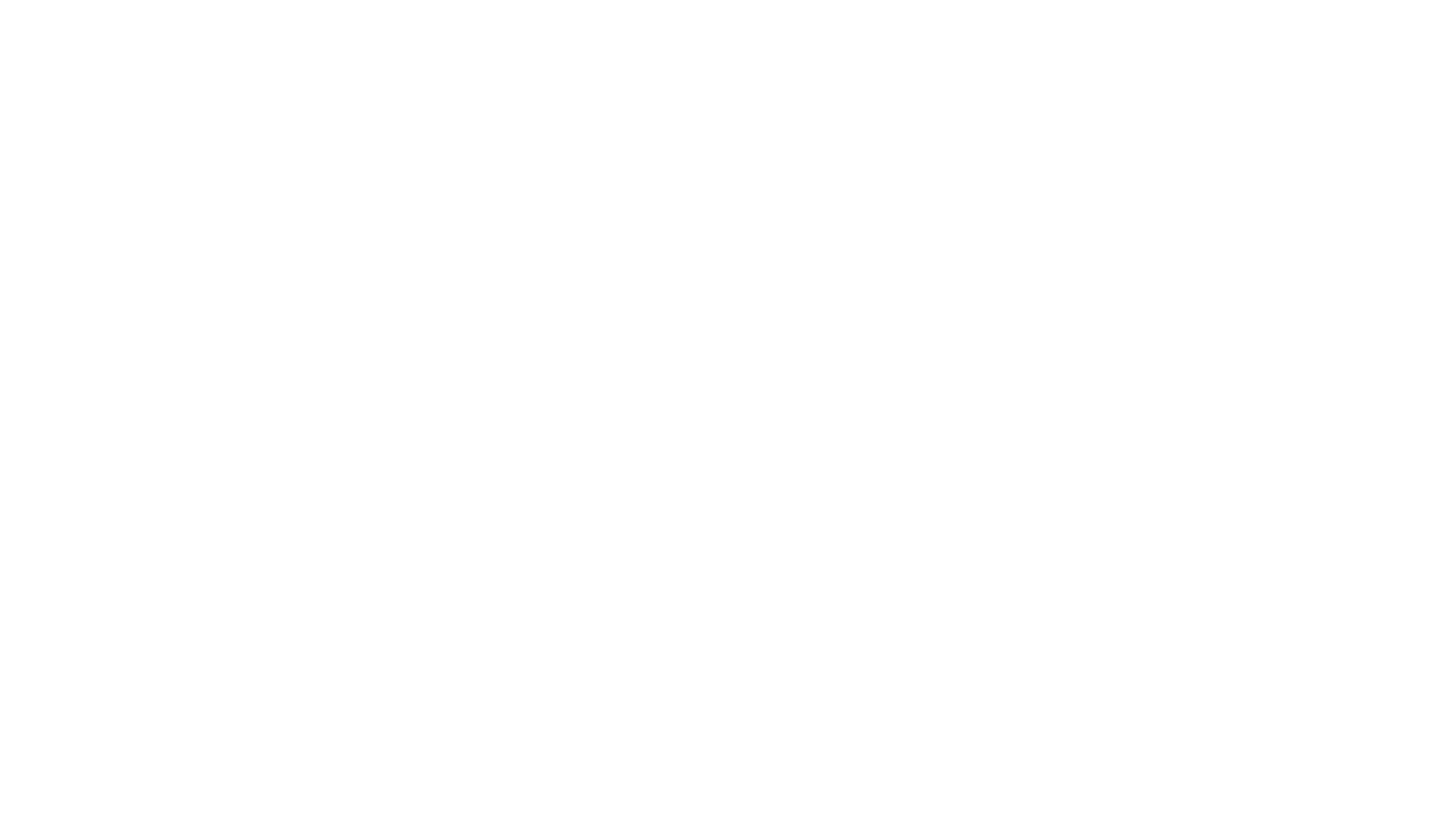
Семейный диалог: готовим наследников, а не только актив
Даже самые совершенные юридические конструкции не гарантируют долгосрочной преемственности, если не работать с главным “активом” – людьми. В наследственном планировании есть человеческое измерение: насколько наследники готовы принять эстафету, знают ли они ценности семьи, умеют ли управлять капиталом, хотят ли продолжать семейное дело. Очень часто богатство рассыпается не из-за налогов или законов, а из-за банальных конфликтов и некомпетентности наследников, которых родители не посчитали нужным обучить.
К сожалению, многие богатые родители склонны не обсуждать деньги с детьми. Опасаются “испортить” их, убить мотивацию, или просто не находят времени. Возвращаясь к теме «проклятия третьего поколения» – опыт подсказывает, что оно во многом становится самосбывающимся пророчеством именно из-за отсутствия открытого диалога. Если дети выросли в неведении о семейном бизнесе и финансах, внезапно унаследованные миллионы могут оказаться для них непосильной ношей.
Наша команда убеждена (и практика клиентов подтверждает): готовить нужно не только активы к передаче, но и наследников к активам.
✔️ Во-первых, постепенное вовлечение нового поколения в дела семьи. Лучшие династии поступают так: начиная с юности дети участвуют в обсуждениях, работают стажёрами в семейной компании, присутствуют на советах директоров (хотя бы в роли наблюдателей), знакомятся с ключевыми партнёрами. Однако реальность пока далека от идеала. Согласно опросу UBS, только 26% семейных офисов привлекают наследников к планированию с самого начала, на равных. Больше трети (36%) подключают молодое поколение уже после обсуждения между старшими. А 35% вообще никак не включают следующую генерацию в диалог о будущем.
То есть в каждом третьем семействе решения принимаются за закрытыми дверями, а наследники узнают о планах постфактум. И вот парадокс: вспоминаем, что 59% семейных офисов заявляют, что младшие члены семьи наверняка получат место в совете директоров в будущем – то есть формально понимают необходимость их участия, но почему-то не спешат вовлекать на стадии планирования. В итоге получается, что молодые наследники “врываются” в управление уже после смены поколений, не имея за плечами опыта постепенного погружения.
- Сначала несколько месяцев рядом с юристкой Джерри, потом столько же с финансовым директором Карлом;
- Затем — длительная командировка в зарубежный офис (с акцентом на Гонконг и возможной ротацией в Берлин/Лондон);
- После этого — управленческий тренинг и ещё около года «плечом к плечу» с ним (отцом).
При этом ее также ошарашивает срок в 3 года. Она явно не осознает, чего стоит реальная позиция в этой компании. Ей кажется, что достаточно просто прийти и статусно сидеть в том самом кресле, отдавая руководящие указания. Но Отец к ее удивлению описывает совершенно другую картину.
На наш взгляд, путь в 3 года - это чрезвычайно короткий путь для такой должности и, особенно, для человека без опыта (коим является Шив). Но даже такой план ей кажется долгим. Тут нужно сделать сноску, что мы не критикуем Шив. Вся проблема невозможности передать свое наследие в этом сериале показана очень объемной и многофакторной. Привести к этой проблеме "постарались" все. Ну а на Главе семьи лежит возможно даже самая большая ответственность. Впрочем, все субъективно.
✔️ Во-вторых, образование и тренировки. Управлять капиталом – навык, которому надо учить. Многие семьи отправляют наследников учиться финансам, менеджменту. Существуют даже специальные курсы для молодых миллионеров: как разбираться в инвестициях, читать финансовые отчёты, понимать юридические основы trust & estate. Те семьи, что могут себе позволить, нанимают коучей, менторов для наследников, вводят их в деловые круги.
Хорошей практикой считается создать семейный совет (Family Council), куда входят и старшие, и представители младших – там обсуждаются как бизнес-вопросы, так и филантропия, ценности семьи. Всё это – элементы той самой семейной стратегии, которая выходит за рамки цифр и документов. Как говорится, “готовьте не только наследство для детей, но и детей для наследства”.
Стоит также упомянуть про семейный диалог в широком смысле. Большие состояния часто приводят к множеству заинтересованных сторон: зятья, невестки, дальние родственники, которые могут претендовать на часть наследства. Если при жизни не обсудить открыто некоторые вопросы (например, кто будет руководить компанией – родной сын или наёмный директор? Нужно ли всем наследникам работать в семейном бизнесе или они свободны выбирать свой путь?), после смерти основателя эти разногласия выливаются в конфликты.
Семейная культура откровенного обсуждения, регулярные собрания – профилактика “семейных войн”. Юмор тоже помогает: мы, например, знаем семью, где дедушка собрал внуков и игриво завещал каждому конкретную проблемную ситуацию для решения – мол, “ты будешь отвечать за этот завод и решить его экологические вопросы, посмотрим, как справишься”. Таким образом он превратил ввод наследников в бизнес в своего рода квест. Не всем подходит такой стиль, но суть в том, чтобы передача дел была процессом, а не внезапным событием.
Наконец, немаловажно прививать наследникам ответственность и ценности. Деньги без ценностей разлагают. Семьи, сумевшие сохранить единство, обычно имеют общие филантропические проекты, традиции, семейные истории, которые укрепляют связь поколений. Семейная филантропия – отличный инструмент: совместно вести благотворительный фонд, куда старшие и младшие вместе направляют средства и участвуют в выборе проектов. Это учит работать сообща и понимать ценность труда.
Резюмируем: семейный диалог и подготовка наследников – неотъемлемая часть преемственности. Если все разговоры о наследстве табуированы, а дети узнают о бизнесе только из новостей, никакие трасты не спасут от хаоса. Поэтому, планируя передачу капитала, планируйте также передачу знаний и ответственности.
Прочтите ниже нашу короткую заметку о том, какие роли могут образоваться в семье и как это влияет на ее микроклимат.
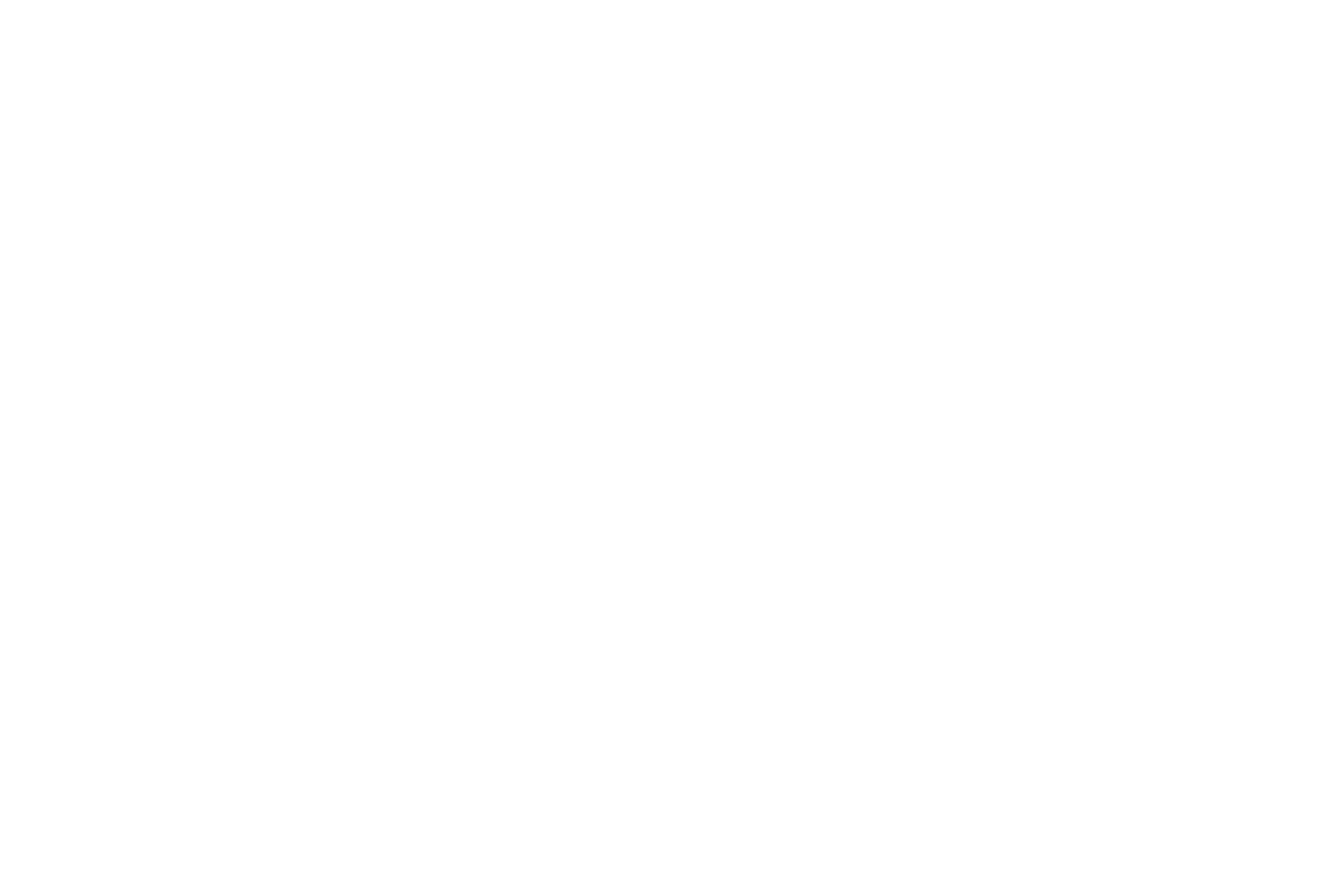
Уорен Баффет опубликовал свое последнее письмо акционерам и инициировал передачу управления компании
У нас есть такая привычка – возвращаться в уже написанные материалы и дополнять их новой информацией, которую мы получаем, потому что просто живем свою жизнь и занимаемся своей профессией. 10 ноября 2025 года произошло именно такое событие, которое мы не можем не включить в наш материал: Уорен Баффет отходит от дел и инициирует передачу компании другому человеку, наряду с распределением наследственной массы в пользу своих детей.
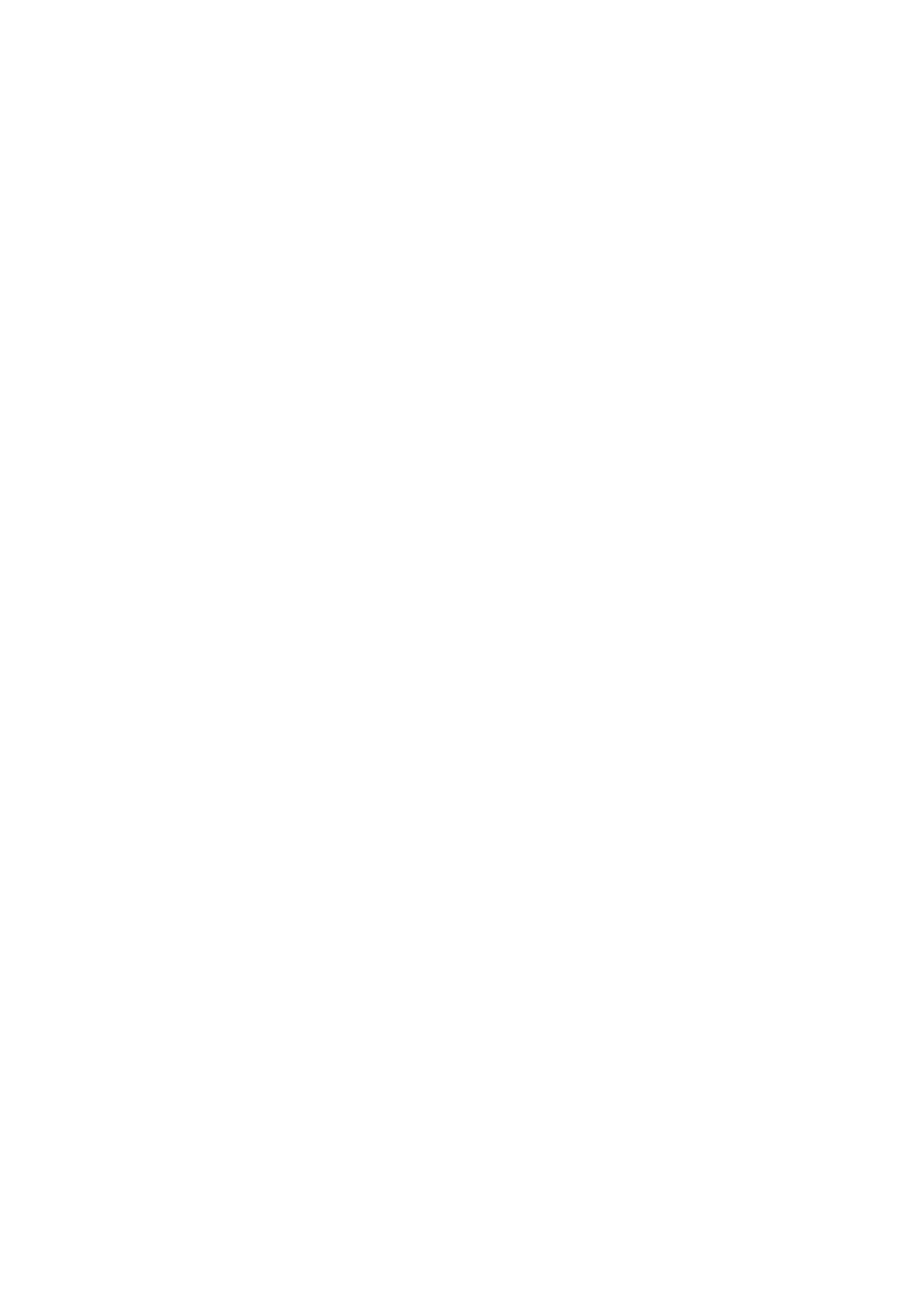
Типичные ошибки при планировании преемственности
Обсудим коротко и распространённые ошибки, которые мы как консультанты наблюдаем. Зная их, вы сможете постараться их избежать или хотя бы минимизировать:
- "У меня полно времени!";
- "Разделю все поровну. Это справедливо";
- Акцент только на документы и инструменты;
- Тотальная секретность;
- Сделал и забыл.
Оформили в виде карточек. Полистайте.
Каждая семья уникальна, поэтому и ошибки бывают специфические. Но указанные выше – почти универсальные грабли, на которые наступали сотни династий. Постарайтесь пройти мимо них.
Инструменты преемственности: завещания, страхование, трасты, фонды и семейный офис
С одной стороны, наследственное планирование – вещь комплексная, охватывающая юридические, финансовые и человеческие аспекты. С другой стороны, у него есть вполне конкретный набор инструментов, из которых формируется подходящая именно вашей семье стратегия. Мы намеренно сделали эту главу ближе к концу, потому что выбор и использование инструментов – это технический шаг. Он не такой сложный. На сегодняшний день, если нет трудностей с объяснением происхождения активов, то и нет задач, которые нельзя решить, каким бы комплексным не был ваш наследственный массив. Для всего есть легальный инструмент, для всего есть легальный способ.
Перечислим обзорно основные «кирпичики» преемственности без глубокого погружения в каждый из них.
📃 Завещание
В России завещания заверяют нотариусы; их популярность растёт: за 8 месяцев 2024 года оформлено 389,8 тыс. завещаний, на 8% больше, чем за тот же период 2023-го. Завещание позволяет распоряжаться любым имуществом – движимым и недвижимым, существующим и будущим. Его можно составить в пользу любого лица (не обязательно родственника) или организации. Главный плюс – документально зафиксирована воля наследодателя, что снижает почву для споров.
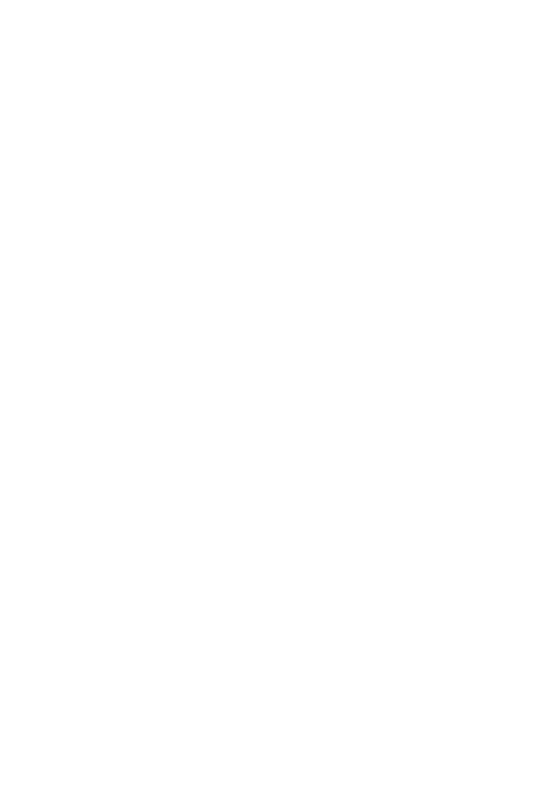
В 2019 году в РФ ввели новацию: совместное завещание супругов. Раньше даже при совместно нажитом имуществе муж и жена могли распоряжаться только своей долей. Теперь же пара может составить единое завещание на двоих, что удобнее для семейного имущества. Ещё один инструмент – наследственный договор. Его принципиальное отличие: наследники участвуют в заключении сделки и знают условия заранее (они становятся стороной договора), тогда как содержание завещания обычно тайна и открывается только после смерти. Наследственный договор позволяет вписать условия, которые наследники должны выполнить, и тем самым подготовить их к роли преемников более осознанно.
Важно: завещание или договор – это только вершина айсберга. Чтобы их реализовать, наследникам необходимо знать, что наследовать. Потому возвращаемся к вопросу учёта активов: инвентаризация имущества при жизни – насущная часть планирования.
Составьте реестр: недвижимость, бизнес-активы, счета, инвестиции, долги и обязательства. Обновляйте его. Храните в безопасном месте и сообщите доверенным лицам, где искать. Иначе даже идеальное завещание не спасет, если наследники не найдут половину счетов и активов.
📱 Цифровые решения – от учета активов до «цифрового завещания»
В эпоху технологий грех не использовать цифровые инструменты. Мы уже упоминали проблему учета активов – ее можно решить с помощью специализированных digital-решений. Существуют сервисы (в том числе в России), которые предлагают платформы для безопасного хранения финансовой информации, реестра активов, сканов документов, паролей от счетов и даже алгоритмов распределения наследства. По сути, это «цифровой сейф» семьи, доступ к которому получат доверенные лица при наступлении оговоренных условий. Например, можно настроить: если со мной что-то случилось, мой советник или наследник получает доступ к облачному хранилищу, где подробно расписано, что у меня где лежит, контакты всех нужных людей, номера счетов, ключи от сейфов и т.д.
Пока такие инструменты только набирают популярность – менее 20% используют облако для хранения данных. Но будущее, несомненно, за этим. Как минимум, электронные каталоги активов помогут семейному офису или наследникам быстро сориентироваться. А максимум – появятся смартаппы для наследования, где искусственный интеллект будет помогать оптимизировать план передачи, учитывать изменения (рождение новых наследников, изменение законодательства) и даже моделировать последствия (“stress-test” плана). Фантастика? Возможно. Но уже сейчас цифровизация входит в число главных трендов управления благосостоянием.
К слову о цифровом: вместе с благами приходят и новые риски, например кибербезопасность. Deloitte выяснил, что 43% семейных офисов по миру пережили кибератаку за последние пару лет. Хранение конфиденциальных данных о состоянии – лакомая цель для хакеров. Поэтому, выбирая цифровые решения, не забывайте об информационной безопасности: шифрование, мультифакторная аутентификация, бэкапы, ограничение доступа. Иначе вместо упрощения жизни технологии могут устроить «утечку века» с раскрытием всей подноготной семьи.
🏛️ Траст
Трасты – один из самых мощных инструментов в арсенале наследственного планирования. Это юридическая конструкция англосаксонского права, при которой имущество передаётся доверительному управляющему (trustee) в интересах бенефициаров (наследников). Проще говоря, траст позволяет “отделить” владение активом от выгоды: условно, семья владеет бизнесом не напрямую, а через траст, и когда основателя не станет, траст продолжит бесперебойно управлять активами согласно заранее заданным правилам.
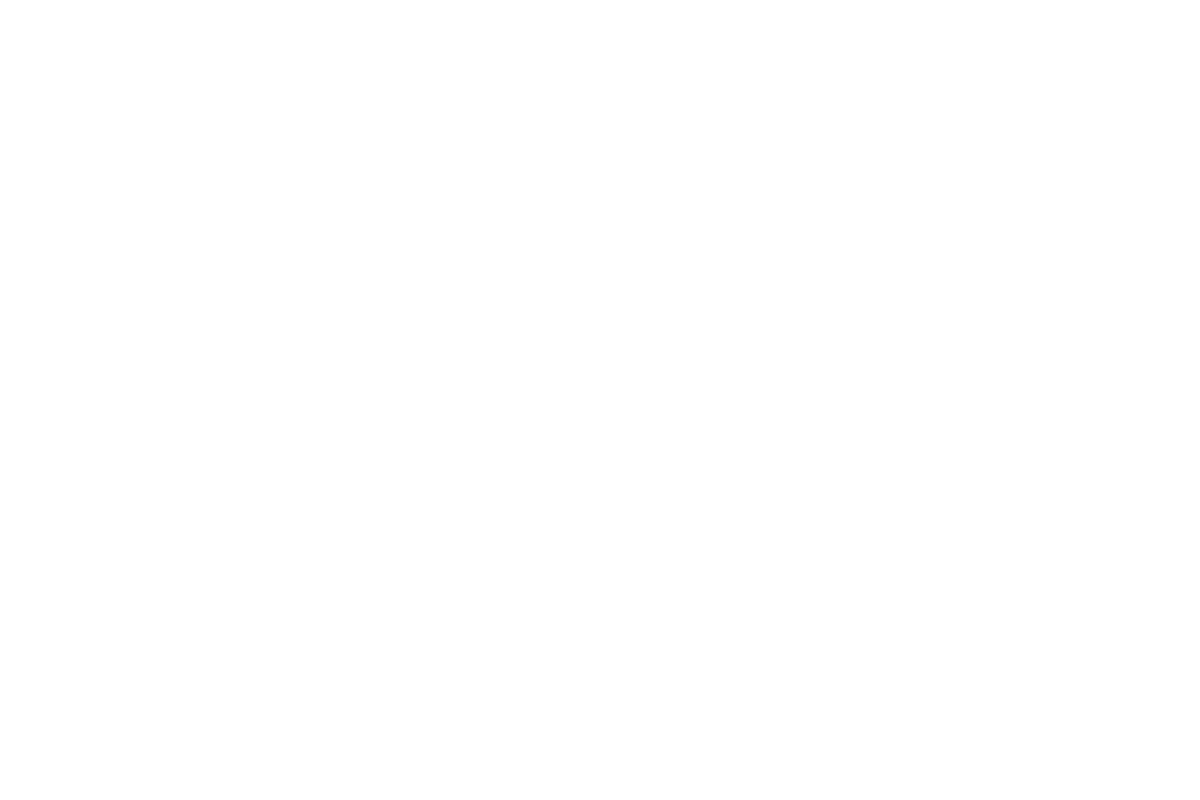
Плюсы трастов:
- Позволяют сохранить бизнес целостным (акции компании принадлежат фонду, а не дробятся между наследниками);
- Задаются четкие правила управления и выплаты доходов наследникам (например, траст платит каждому ребенку фиксированный доход, а контрольный пакет остаётся неделимым);
- Траст работает и после смерти основателя, по сути «бессмертный» владелец, который следует уставу, а не эмоциям;
- Защита от внешних посягательств: правильно созданный траст защищает активы от кредиторов, недобросовестных родственников и даже от транжирства самих наследников (поскольку бенефициары не могут бесконтрольно распродать активы фонда);
- При создании private-trust с советом директоров (куда входят управляющий, финансовые/налоговые консультанты, адвокаты и прочие специалисты) можно организовать сколь угодно комплексное управление любыми видами активов по всему миру согласно расписанному плану преемственности.
Уже набившая в глобальных примерах оскомину семья Рокфеллеров: их состояние более 100 лет живет в фондах и трастах, каждый потомок получает дивиденды, но продать семейный банк или бизнес не может без согласия совета фонда. Это удерживает капитал в семье и помогает преодолеть поколенческие смены без потерь. В целом их структура построена на династических трастах и страховых полисах (о них речь пойдет ниже). Это еще одна комбинация двух проверенных временем подходов для передачи наследия.
🔗 Наш большой материал про трасты. (ссылка ведет на наш другой большой сайт)
Частные (семейные) фонды в Европе и Личные фонды в РФ
- Частные (семейные) фонды.
В континентальной Европе и ряде стран есть институт частных фондов, которые могут выполнять схожую роль. Семейный фонд – это не благотворительный (хотя бывает и филантропический), а именно корпоративно-правовой инструмент: учредитель передаёт свои активы в негосударственный фонд, который управляется по определённому уставу и распоряжается прибылью в интересах бенефициаров семьи.
Такие фонды существуют, например, в Австрии, Лихтенштейне, Нидерландах и т.д. Для крупных евразийских состоятельных семей использование иностранных фондов – тоже вариант: например, Stiftung в Лихтенштейне или фонд в Сингапуре. Они помогают удерживать активы единым “паком” и передавать права на них не напрямую физическим лицам, а через управляющую организацию.
- Личные фонды в РФ.
В России понятие траста пока не узаконено, но есть функциональные аналоги – наследственные фонды и личные фонды для активов внутри российского контура. Наследственный фонд в РФ – специальное юрлицо, которое создается по завещанию после смерти владельца бизнеса. Фонд получает его активы и управляет ими согласно уставу, выплачивая выгодоприобретателям (наследникам) определенные доходы. Такой механизм введен с 2018 года как ответ на запрос крупного бизнеса: он позволяет избежать распада компаний при наследовании и сохранить управление профессионалами.
Личный фонд – аналогично, но его можно учредить при жизни. Он обеспечивает семью финансами, при этом не подпадает под нормы наследства (то есть не действует правило обязательной доли, и долги наследников на него не распространяются). По сути, личный фонд – инструмент и преемственности, и защиты активов: например, защитит “нерадивых” наследников от потери активов, потому что фонд не отвечает по их личным долгам.
Разумеется, фонды – инструмент для крупных состояний. В России для создания личного фонда нужен капитал минимум 100 млн руб. Пока это все еще новинка (нет судебной практики, нельзя пока с уверенностью говорить об их устойчивости перед рисками): на второе полугодие 2025 года зарегистрировано немногим более 100 личных фондов. При учреждении фонда обязательно участие нотариуса, который проверяет соответствие устава воле учредителя и закону. Фонды дают возможности по условиям и настройкам – как говорят эксперты, «наследственное планирование – всегда творчество». Главное – пользоваться этим инструментом вовремя.
I. 🛡️Страхование жизни как важнейший инструмент преемственности и создания крупного капитала.
Страхование жизни (Далее иногда СЖ) и наследственные страховки.
Здесь важно обозначить, что страхование жизни – это в первую очередь самый эффективный инструмент человечества для мгновенного создания крупной суммы в обмен на несоизмеримо малый взнос. При открытии полиса вам лишь нужно определить кому будет выплачена эта крупная сумма.
Крупный страховой полис жизни владельца бизнеса может также сыграть роль “подушки”, покрыв налоговые издержки или долги, которые могут лечь на наследников, а также обеспечив семью ликвидностью, пока бизнес проходит через транзит к следующему собственнику.
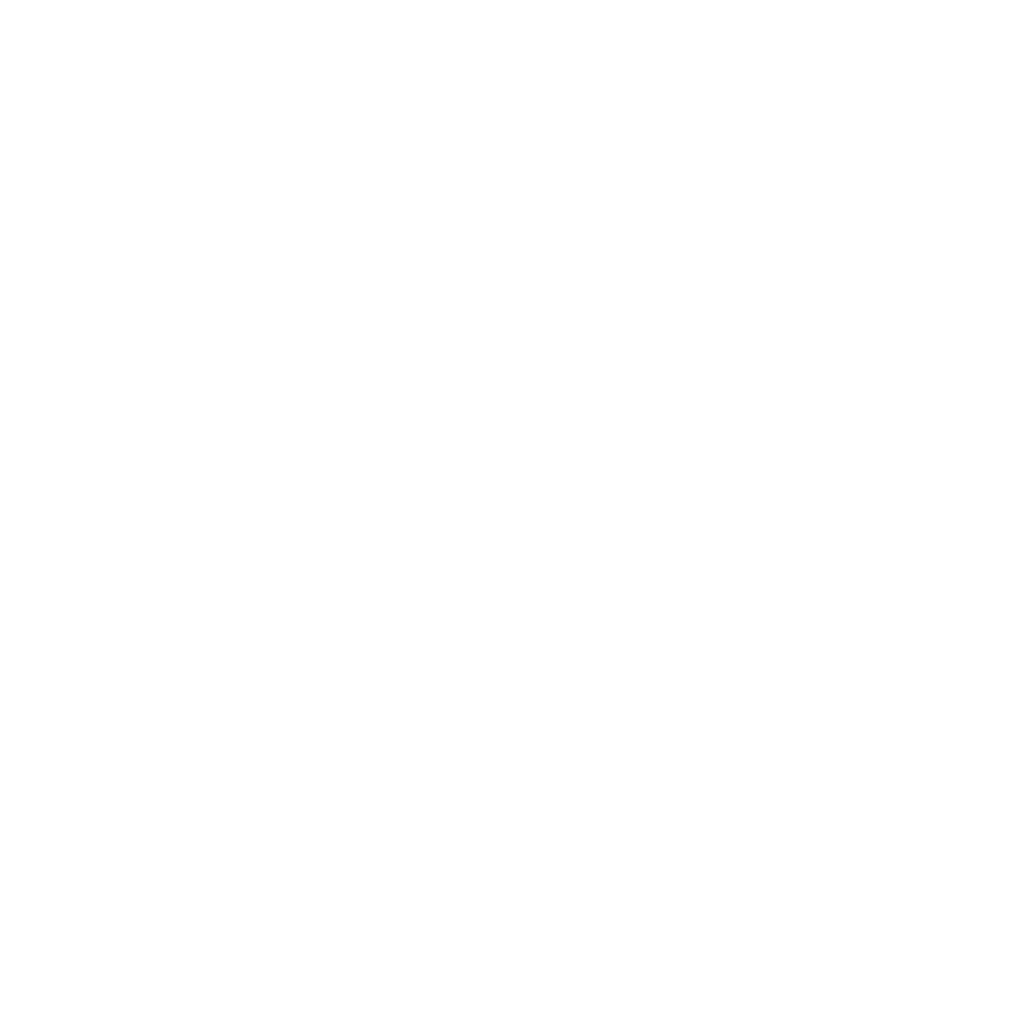
Cтрахование жизни – неотъемлемая часть наследственного планирования, позволяющая быстро компенсировать имущественные доли одних наследников, не дробя семейный бизнес. В подавляющем большинстве стран мира выплаченная страховая сумма не входит в наследственную массу и не облагается налогом (потому что это не прибыль для семьи, а компенсация потери).
⚠️ Мы не зря свели определение СЖ к очень простой функции – создание капитала, потому что любая задача, в которой есть риск финансовой потери любого масштаба из-за триггерного события – это то, что решит СЖ.
Вот лишь неполный список ситуаций из жизни, где страхование жизни играет ключевую роль:
- Защита близких;
- Гарантия запланированных инвестиций;
- Защита партнерства в бизнесе;
- Использование страхового накопительного полиса для инвестиций;
- Защита близких от долговых обязательств;
- Защита семьи на время ипотеки;
- Страхование жизни как гарантия оплаты высшего образования детей;
- Страхование жизни как источник пассивного дохода/пенсионного аннуитета для семьи;
- Минимизация налога при инвестировании;
- Создание наследства;
- Создание VIP-привилегий для участников вашего бизнеса;
- Источник пополнения траста;
- Создание непрерывного финансового потока для текущего и последующих поколений (пример Рокфеллеров в статье);
- Помощь фондам/приютам/благотворительным организациям;
- Дети-инвалиды в семье.
🔗 Немного более развернуто о каждой из таких задач
🔗 Статья, которая наиболее полно раскрывает значение Страхования жизни и здоровья
Считаем крайне важным упомянуть, что полис СЖ относится к тем документам или, если хотите, к тем инструментам о существовании которых должен знать кто-то еще, кроме застрахованного. Если вы не хотите, чтобы близкие знали, что им положена крупная выплата, сообщите о наличие полиса своему доверенному лицу. Связано это с парой важных моментов:
- Страховая компания может не узнать, что застрахованный ушел из жизни, так как с ее стороны все будет выглядеть так, что клиент просто перестал платить взнос. Договор между страховой компанией и застрахованным имеет односторонний характер: клиент ничего не должен страховой компании, его нельзя обязать платить взносы. Ему придет на email пару предупреждений о том, что взнос не был внесен, а затем просто настанет тишина. Полис либо закроется, либо проработает еще какое-то время в зависимости от типа полиса и наличия в нем денежной стоимости;
- К тому же немало полисов, которые являются выплаченными сразу в момент открытия. Клиент вносит один большой взнос и больше не платит никогда. Такой контракт будет существовать до 120 лет и дальше, готовый в любой момент выплатить страховое пособие по смерти. Представить себе в этом смысле более "молчаливый" страховой полис довольно трудно;
Здесь с другой стороны можно начать рассуждать как такое возможно, что в страховую компанию никто не сообщит, ведь есть в конце концов финансовый советник или страховой агент, который имеет связь с клиентом. Допустим. А что если не имеет?
Продукты страхования жизни – это инструменты, которые работают, как правило, десятилетиями, и поддержание их работоспособности в 99% случаев сводится к методичной(=скучной) уплате взноса один раз в год. Никто никого не тревожит. А человеческие отношения между страховым агентом/консультантом и застрахованным могут не продлиться по самым разным причинам. В конце концов никто не может гарантировать, что агент не уйдет из жизни.
Вот почему важно, чтобы кто-то смог обратиться в страховую компанию и сообщить о смерти владельца полиса.
II. 💼 Страхование жизни как контейнер для активов: Private Placement Life Insurance
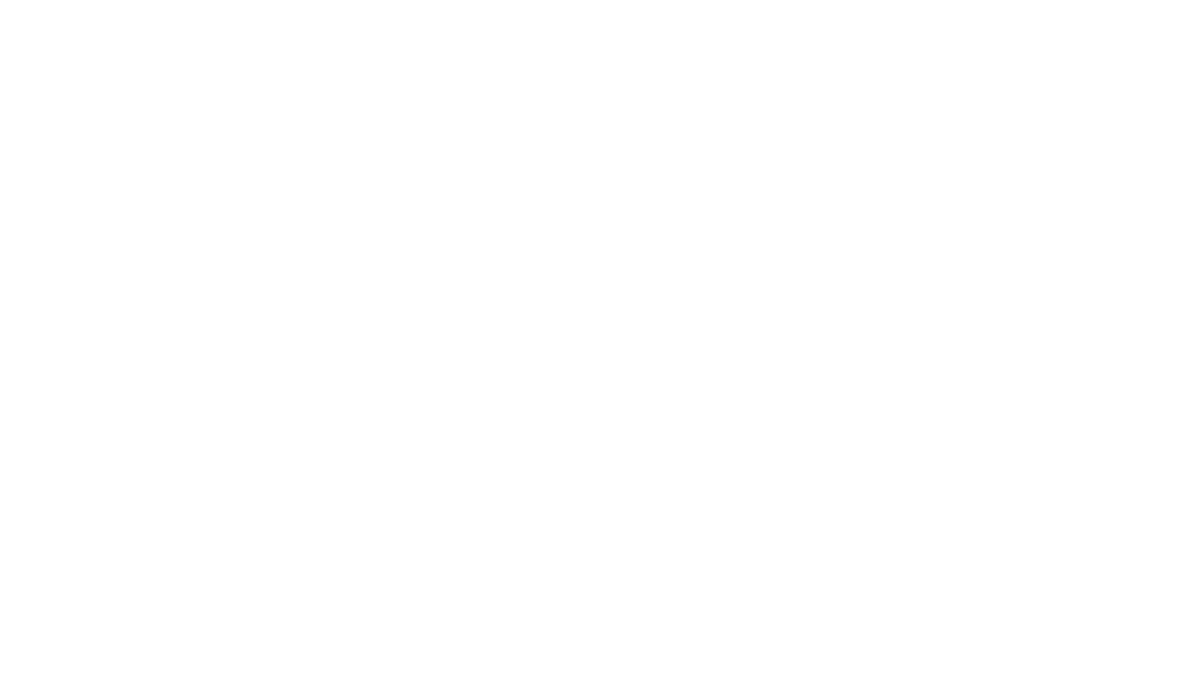
Позже к этой модели добавилась возможность гибко управлять инвестициями внутри полиса, что дало жизнь современным продуктам ULIP (Unit-Linked Insurance Plan) и PPLI (Private Placement Life Insurance).
- ULIP полисы способны хранить, накапливать и защищать только денежные средства;
- PPLI-структура предназначена для структурирования как ликвидных, так и неликвидных активов. И при этом она также может хранить, накапливать и защищать.
ULIP/PPLI – это не конкретная компания и даже не тип полиса (хотя для простоты специалисты и клиенты действительно называют ppli или ulip полис) – это форма упаковки и учета активов.
Так например, полисы PPLI позволяют не только хранить деньги под защитой международного страхового законодательства, но и вносить в них широкий спектр активов: от денежных средств и ценных бумаг до криптовалюты, недвижимости, транспорта, долей в инвестиционных фондах или частных компаний. Это делает полис своего рода «контейнером», в котором активы структурируются, управляются и передаются наследникам в удобной и понятной для международного законодательства форме.
С точки зрения преемственности бизнеса и личного капитала, PPLI и ULIP решают сразу несколько задач:
- Они позволяют закрепить выбранных бенефициаров и обеспечить автоматическую выплату капитала, минуя длительные и затратные процедуры наследования;
- Благодаря правовой защите страхового полиса активы внутри него не подлежат взысканию по личным долгам и остаются неприкосновенными даже при сложных семейных или корпоративных конфликтах;
- Общим знаменателем в разрезе признания этих продуктов по всему миру является то, что это страхование жизни. Ведь юридически – это классический полис СЖ, за исключением того, что взносом в такой полис может быть не только денежная сумма, но и другие активы;
- Повышенная конфиденциальность благодаря минимальной передачи информации по автообмену и законам о страховании.
Такие полисы также часто используются для налоговой оптимизации: инвестиционный доход внутри полиса не облагается налогом до момента изъятия, что позволяет капиталу расти быстрее за счёт сложного процента. А в подавляющем числе юрисдикций страховая выплата полностью освобождена от налога на наследство, что делает полис эффективным инструментом межпоколенческой передачи капитала.
В сегодняшнем мире PPLI считается по праву самым инновационным и гибким инструментом по упаковке активов.
🔗 О том, как работает Private Placement Life Insurance в нашем подробном материале.
- Максимизировать конфиденциальность при соблюдении закона. В эпоху увеличения прозрачности любая международная структура должна выполнять требования FATCA, CRS и CTA. Если в рамках задачи по передаче активов требуется минимизация публичного раскрытия, это должно происходит также в рамках регуляторных требований. И здесь уже нужно просто подобрать правильное решение или комбинацию таких решений;
- Законно защитить активы. Поместить состояние в корректно структурированные и соответствующие международным стандартам структуры, чтобы защитить его от кредиторов, исков и банкротства;
- Оптимизировать налогообложение. Минимизировать налоги на прирост капитала, наследство и удержания у источника, часто с использованием льготных инструментов, таких как страхование жизни;
- Обеспечить гибкость. Позволять вносить изменения при изменении законов, потребностей семьи или экономической ситуации;
- Использовать юрисдикционную диверсификацию. Привлекать юрисдикции с сильными законами о защите активов (Бермуды, Сингапур, Кайманы) и диверсифицировать структуры по регионам для снижения риска.
Корпоративные соглашения, структуры и выкупные опционы
Cюда относятся такие инструменты, как акционерные соглашения с положениями на случай смерти партнёра, ввод семейного траста в число акционеров, механизмы семейной конституции и т.п.
Семейная конституция – это внутренний документ, где прописаны правила управления семейным делом, ценности, процедура разрешения споров, роли для членов семьи (кто может занимать какие посты, как принимаются решения о продаже бизнеса и т.д.).
Такой документ не имеет юридической силы, но его наличие серьёзно повышает шансы на мирную передачу власти. По сути, это часть семейной стратегии – договорённости внутри семьи, которые действуют как «надстройка» над юридическими документами.
В российских реалиях набирают популярность корпоративные механизмы: учредить ООО “семейный холдинг” и передать детям доли этого ООО при жизни или по наследству с определёнными условиями, заключить договоры дарения с оговорками, иные соглашения. Правильная структуризация бизнеса – неотъемлемый элемент наследственного планирования.
Опционы для партнеров. Если бизнес велся в партнерстве, крайне важно заранее оговорить, что произойдет с долей умершего партнера. Иначе можно столкнуться с проблемой «чужих наследников» в капитале. В России ~75% бизнесов созданы в партнерстве, но многие договоренности не оформлены юридически. Нотариусы отмечают распространенную практику, когда компании оформлены на «номинальных» лиц (друзей, топ-менеджеров) для удобства или конфиденциальности. Пока все живы – владелец уверен в лояльности номинала. Но если формальный собственник умирает, его наследники законно претендуют на долю, и истинному владельцу придется долгими судами доказывать свои права. Поверьте, никто из вас не хочет оказаться на месте этого владельца.
Чтобы этого не было, используют например инструменты типа опционного соглашения: партнеры (или реальные бенефициары) заключают нотариально удостоверенный опцион на продажу доли – проще говоря, договор о том, что в случае определенного события (например, смерти участника) другая сторона имеет право выкупить его долю за оговоренную сумму. Это гарантирует контроль над бизнесом: семья умершего получит деньги, а доля перейдет к оставшимся партнерам, минуя посторонних наследников. Опционы в РФ относительно новый инструмент (активно стали применять после 2014 года). Их плюс – гибкость и то, что выполняются автоматически, без споров: нотариус проверяет условия и при наступлении события заверяет сделку.
👨👩👧👦💼 Фэмили офис
Семейный офис (Family Office) – вершина эволюции управления крупным состоянием. Классический семейный офис – это компания (полностью принадлежащая семье), которая занимается всеми аспектами богатства: инвестирует средства, управляет недвижимостью, ведёт бухгалтерию, нанимает персонал, консультирует по благотворительности, обучает наследников финансовой грамоте и т.д. По сути, семейный офис – это персональный доверительный управляющий для семьи, институционализированная форма семейного управления.
По данным UBS, средний семейный офис управляет капиталом около $1,1 млрд и всё активнее инвестирует в альтернативные классы активов для диверсификации. Семейные офисы растут по числу: к примеру, только в Дубае за 2023 год открыто более 200 новых семейных офисов, доведя общее число в DIFC (Dubai International Financial Centre - сводобная экономическая зона) до ~800 (рост 36% в год) – богатые семьи со всего мира выбирают стабильные юрисдикции для размещения своих офисов.
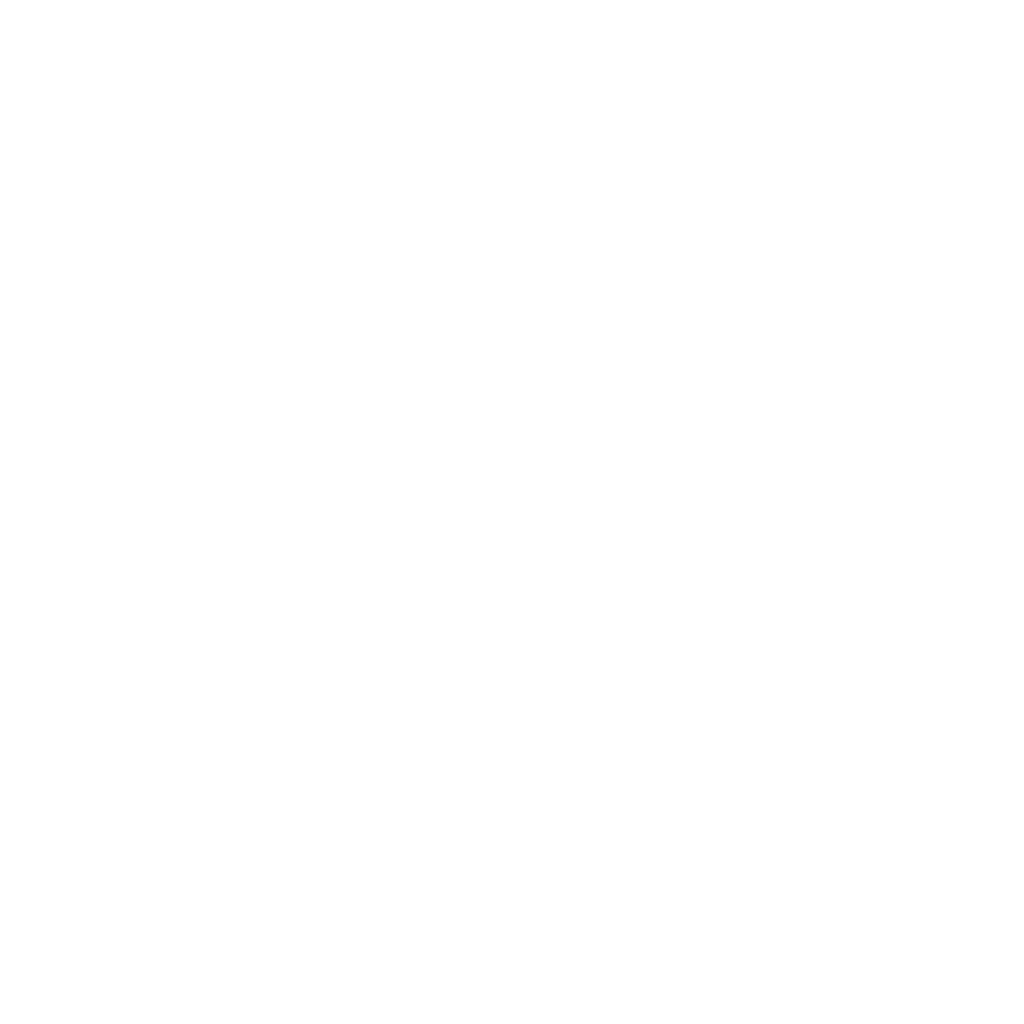
В России и на постсоветском пространстве институт классических family office пока в зачатке: чаще функции условного “офиса” выполняет отдел в холдинге или доверенный советник. Но интерес стремительно растёт, особенно у семей, чьи активы разбросаны между странами – им нужен единый центр управления. Наша команда убеждена: если у вас большой капитал и сложные активы, создание семейного офиса (пусть поначалу и небольшого) окупится спокойствием и сохранностью ваших богатств.
Подытоживая раздел: у наследственного планирования множество инструментов – от привычных (завещания) до продвинутых (семейные фонды, офисы, трасты). Нет универсального рецепта или конкретного инструмента – каждая семья комбинирует то, что подходит под её ситуацию.
Но важно помнить: любая структура лучше, чем её отсутствие. Даже простое завещание уже лучше, чем ничего; траст или фонд лучше, чем просто завещание; а семейный офис может стать “мозговым центром” вашей династии. Инструменты подобны кирпичам, из них вы строите мост между поколениями.
- ❗️ Не откладывайте на завтра (Тайминг)Главный враг – прокрастинация и идея "у меня еще полно времени" (о которой мы уже говорили выше в наших карточках). Жизнь непредсказуема: форс-мажор может случиться в любой момент. Как говорится, «ничто так не стимулирует составить завещание, как внезапный сердечный приступ, пережитый другом». Но лучше не ждать тревожного звонка. Помните: наследственный трансфер происходит только раз – нельзя его протестировать, откатить и запустить заново исправленным. Если что-то сделано неверно, потом не исправишь. Поэтому начните подготовку сегодня: даже если вы молоды и полны сил, иметь базовый план и актуальный список активов не помешает. А дальше корректируйте по мере изменений. Лучше встретить будущее во всеоружии.
Мы бы выделили два аргумента в пользу правильного "тайминга":- На этом этапе нашей статьи можно с уверенностью сказать, что разумным ответом на вопрос "Когда начинать готовить наследников?" всегда будет – "вчера" или "как можно раньше". Если у вас есть время, то у вас есть ресурс не только для инвестиций в обучение, но и для совершения и исправления ошибок. Когда у вас достаточно времени, трудности с которыми вы столкнетесь можно будет решить и учесть как опыт, потому что еще не поздно;
- Если говорить с точки зрения защиты активов и налоговой оптимизации, то структурировать активы нужно заранее потому, что риски, которые реализуются внезапно, поставят вас в положение, что структурировать что-либо будет уже поздно. Ни страховая компания, ни хороший трасти не возьмут вас к себе "на борт", потому что никому из них не захочется разбираться с проблемами, с которыми вы к ним пришли. Если вам интересно, почитайте на эту тему нашу статью про кейс, связанный с трастом, который развалился из-за двух основных ошибок: неправильный доверительный управляющий и плохой тайминг.
- Начните разговор в семьеТабу на тему наследства – ваш враг. Преодолейте дискомфорт и обсудите со взрослыми детьми и супругом/супругой, что вы планируете, какие у всех ожидания. Как показывает практика, отсутствие коммуникации рождает хаос: 80% наследников испытывают трудности, когда все случилось неожиданно. Соберите семейный совет в неформальной обстановке, объясните вашу общую миссию (например: «Семейный бизнес должен развиваться и после нас, ради благополучия всех»). Слушайте и молодое поколение – их взгляд может отличаться. Регулярно устраивайте «семейные собрания» для обсуждения стратегических вопросов, даже если дети пока молоды – пусть привыкают участвовать.
Поэтому, даже если вам некомфортно обсуждать тему “когда меня не станет”, постарайтесь преодолеть этот барьер. Объясните свою логику распределения наследства, выслушайте опасения и пожелания наследников. Чем меньше сюрпризов будет в вашем плане для семьи, тем больше шансов, что он реализуется гладко.
Вовлекайте наследников в процесс – хотя бы самых старших и надёжных. Можно постепенно ознакомить их с тем, как устроен бизнес, какие есть сложности. Если кто-то из детей или внуков проявляет интерес – поручайте ему или ей небольшие проекты, растите смену. Помните, что не подготовив наследников, вы обречёте их на повторение ваших ошибок.
Лучше уж пусть учатся при вас, чем потом учиться “на скорости” без права на промах. К слову, обсудите и вопросы, кто какую роль хочет или не хочет – возможно, одному наследнику интереснее вести бизнес, а другому – заниматься семейным благотворительным фондом. Разные роли – нормально, главное, чтобы все были учтены и чувствовали свою значимость. - Определите преемника (или преемников)Если у вас бизнес, решите, кто возглавит его после вас. Это может быть один из детей, зять/невестка, профессиональный наемный управляющий или совет директоров – главное, продумайте заранее. Обсудите это с тем, кого видите лидером: хочет ли он/она этой роли? Нужно ли дополнительное обучение, постепенно вводите в дела. Нередко бизнесмены тянут до последнего, и в итоге неподготовленный сын внезапно получает штурвал, а команда не воспринимает его всерьез.
Лучше запустить план преемственности за 5–10 лет до предполагаемого отхода основателя: постепенно передавать полномочия, представляя наследника партнерам и ключевым сотрудникам. Не делайте «сюрприз» после похорон. - Воспитывайте финансовую грамотность и ценностиБогатство – благо, но и испытание. Дети, выросшие в обеспеченной семье, должны понимать ценность денег и труда. Учите их с молодых лет: дайте небольшой капитал в управление (например, портфель акций) – пусть пробуют и несут ответственность за результаты. Привлекайте к благотворительности – это прививает правильное отношение к деньгам, как к инструменту добра. Расскажите историю создания вашего бизнеса: через что вам пришлось пройти, какие уроки вы вынесли.
Формируйте семейные ценности – так, чтобы наследники чувствовали гордость за фамилию и стремились не посрамить наследие. Ведь, как показывают исследования, нередко «дети получают деньги, но не получают знания», а без ценностей и знаний капитал ускользает. Возможно, стоит составить «семейную конституцию» – документ, где описаны миссия семьи, правила вступления в бизнес, в совет семьи, этические нормы. Многие династии (особенно на Западе) таким образом укрепляют преемственность духовно, а не только материально. - Формализуйте все договоренности и задокументируйте активыКак бы вы ни доверяли партнерам или родственникам, оформите юридически ключевые аспекты: доли в бизнесе, права управления, опционы, брачные контракты (чтобы при разводах активы не ушли из семьи), соглашения акционеров и т.д. Будет обидно потерять компанию, потому что какая-то деталь не была прописана, и закон повернулся не в вашу пользу.
Даже внутри семьи – например, если у вас несколько детей, но бизнесом реально занимается один, заранее решите, как компенсируете другим долю: либо включите их в совет директоров/фонд, либо выплатите деньгами из другого имущества, либо оформите страховой полис. Но не оставляйте это на «авось разберутся сами» – скорее всего, не разберутся или разберутся, но через конфликт.
Как можно раньше составьте полный реестр активов: что у вас есть, где находится, на чьё имя оформлено, какие пароли/ключи требуются (актуально для цифровых активов!). Обновляйте этот список ежегодно. Храните важные документы в доступном, но защищённом месте. Хорошей идеей будет цифровая платформа для учёта – благо, сегодня существуют специализированные решения для богатых семей.
Исследования показывают, что новые поколения ожидают от управления капиталом цифровой прозрачности и удобства – перейдите от “дедушкиных” бумажек к современным дашбордам. Это обезопасит от потери информации и упростит передачу дел.
А еще – оптимизируйте структуру: возможно, стоит свести активы в единый холдинг или фонд, чтобы передавать не десяток разрозненных объектов, а условно одну “корзину” активов, разделённую на доли. Но это не правило. Каждая стратегия всегда case-by-case. - Диверсифицируйте наследство и планируйте налогиЕсли весь капитал завязан в одном бизнесе, наследникам может быть сложно (или невыгодно) его делить. Старайтесь диверсифицировать активы: часть – в бизнесе, часть – в ликвидных инвестициях, недвижимость, кэш. Так, при наследовании можно маневрировать: кому-то достанется завод, кому-то – портфель акций аналогичной стоимости, кому-то – недвижимость. Это снизит риск, что семья распродаст бизнес под давлением «налога на наследство» или чтобы выплатить долю недееспособному наследнику.
Если у вас активы за рубежом – учтите это. Заранее продумайте налоговую оптимизацию: трасты, страхование, дарение при жизни (где-то выгоднее подарить, чем завещать), создание фондов. Грамотные налоговые и юридические консультанты на вес золота: их услуги стоят дешевле, чем 50% вашего капитала, потерянного из-за непродуманного наследства. - Подумайте о благотворительности и общественном наследииМногие семьи создают благотворительные фонды, которые продолжают их ценности в поколениях. Это не только про добро – это и инструмент объединения семьи. Совместная работа над филантропическими проектами сплачивает поколения, дает наследникам чувство значимой роли, особенно если в бизнесе пока для всех нет должностей. И заодно – репутационный капитал семье, ее имя ассоциируется с позитивными делами.
- Обращайтесь к профессионаламНаконец, не пытайтесь решить все в одиночку. Наследственное планирование – сфера, где пересекаются право, финансы, психология, да и просто нужен опыт. Консультанты (юристы, налоговые и наследственные эксперты, семейные советники) уже видели сотни кейсов – они подскажут решения, о которых вы не догадывались. В том же трасте или наследственном фонде куча нюансов – не зря при их создании привлекают нотариусов и адвокатов. Стоит ли экономить на их помощи, когда на кону устойчивость многомиллионного состояния? Тратите же вы на лучших докторов и учителей для семьи – вот и здесь доверьте дело профессионалам. А family office – вообще великая вещь для UHNWI: он окупится спокойствием и сохранностью вашего капитала.
Особое внимание – если у вас активы за рубежом, нужны местные эксперты по праву той страны. Международное планирование – как мозаика, требующая тонкой работы. - ПЕРЕСМАТРИВАЙТЕ ПЛАН ПО МЕРЕ ИЗМЕНЕНИЙ.
Жизнь меняется – рождаются новые дети (или, наоборот, отношения с кем-то портятся), законы переписываются, активы продаются и покупаются. Наследственное планирование – это процесс, а вовсе не разовое действие. Раз в несколько лет (или при крупных событиях) пересматривайте: актуально ли завещание? Не появился ли новый значимый актив, который надо включить в траст? Нужно ли увеличить страховку? Добавить нового наследника?
Хорошей практикой является регулярный аудит семейной стратегии – например, раз в год собирается семейный совет с юристами/финпланировщиком/специалистом по наследственной стратегии и обновляет “дорожную карту” преемственности. Такой подход гарантирует, что когда придёт час “Х”, ваш план будет свежим и адекватным ситуации.
Преемственность в бизнесе и семье – это не марафон. Это спринт. Создание и сохранение династии требует и времени, и труда, и знаний. Но результаты того стоят: правильно организованная передача капитала означает, что дело вашей жизни продолжится, семья останется обеспеченной и сплочённой, а Фамилия – уважаемой. Наследственное планирование – это не только про деньги, но и про ценности, которые вы передаёте потомкам.
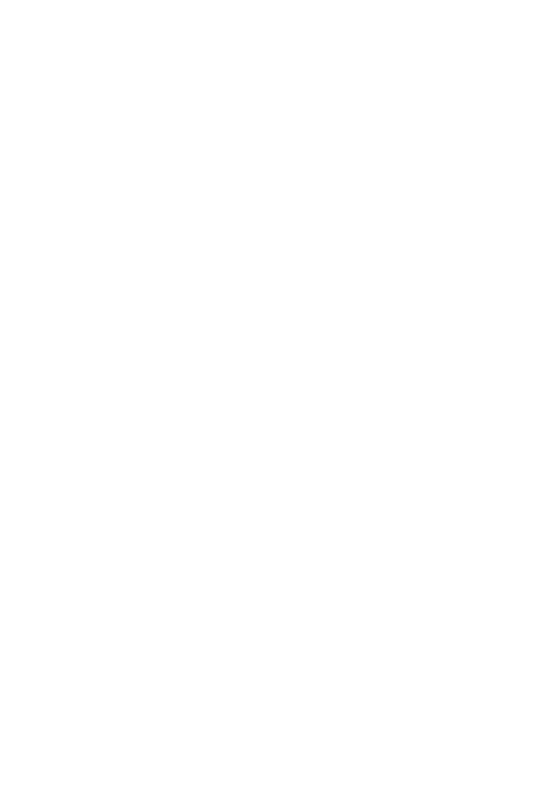
Мы, со своей стороны, искренне верим, что каждый успешный предприниматель способен заложить фундамент семейной стратегии, которая переживёт его самого. Для этого нужны всего три шага: признать важность вопроса, собрать волю в кулак и начать действовать – обратиться к специалистам, провести семейный совет, составить первичный план. Дальше будет легче: вы получите ясность и контроль над ситуацией.
Представьте чувство уверенности, когда вы точно знаете: «Моё дело защищено. Моя семья не передерётся из-за наследства. Налоги минимизированы законно. Наследники готовы и знают, что делать». Ради этого чувства стоит немного потрудиться сегодня. Наша команда уже много лет помогает семьям в России и за рубежом выстраивать преемственность, и мы видим сколько спокойствия и оптимизма приносит клиентам проделанная работа. Начните диалог в семье, оцените риски, заручитесь поддержкой профессионалов. Через много лет ваши наследники с благодарностью скажут: «Как хорошо, что наши родители/деды обо всём позаботились!», и мы не разбирали завалы проблем. Пусть ваш фамильный капитал станет историей успеха, а не предупреждением на страницах бизнес-хроник.
Помните, династию не построить в одиночку за один день, но и распад семьи – не мгновенный рок, а все же результат бездействия. Сделайте выбор в пользу осознанного, ответственного подхода. Пусть ваш семейный бизнес и капитал станут тем самым исключением из правил – богатством, которое не только переживёт третье поколение, но и будет расти и процветать во благо ваших потомков.
-
WorldWide охват
Мы используем все доступные на сегодня международные и локальные решения по защите, повышению конфиденциальности, налоговой оптимизации активов для наших клиентов в свыше чем 60+ странах мира.
Работаем с 15+ надежными юрисдикциями. Понимаем конфиденциальность и уровень задач HNWI и UHNWI+. Работаем с клиентами со всего мира вне зависимости от паспорта и фактического резидентства. -
Наш подход
Мы не ограничиваемся лишь техническим исполнением отдельных запросов вроде открытия трастов или создания других структур. Вместо этого мы внимательно анализируем Вашу исходную ситуацию, разбираемся с целями и уже на этой основе предлагаем оптимальные решения, учитывающие все нюансы. -
KnowYourClient-сервис
У нас KYC-back offices на всех основных континентах: USA, Europe, Asia, Middle East. Это значит, что вы получите заключение по вашей ситуации на предмет того, можно ли пройти комплаенс, структурируя активы так, как вы это видите. И что для этого нужно сделать. Вне зависимости от вашего фактического проживания и географического нахождения активов.
Мы можем дать как второе мнение, так и помочь с прохождением KYC в рамках реализуемой задачи. Правильное прохождение комплаенса сегодня будет гарантировать отсутствие трудностей в будущем в момент передачи активов бенефициарам. -
Построение преемственности по вашему сценарию
Вне зависимости от типа активов, бизнеса, гражданства и фактического резидентства вашей семьи, а также географического расположения активов мы можем помочь настроить преемственность ваших активов согласно вашему видению.